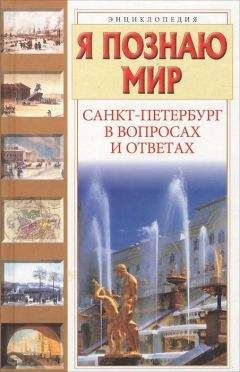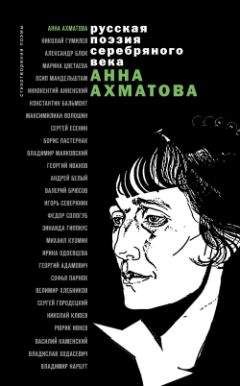Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Символично, но он даже в смерти станет первым из череды убитых потом властью поэтов. Опять – первым!
39. МЕЧТА И ГОЛУБЬ (Адрес шестой: ул. Радищева, 5)
За полгода до расстрела Гумилев скажет вдруг Георгию Иванову: «Сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал – угадай, кому? – кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно. Один за всех, все за одного. Самое тяжелое – одиночество. А я так одинок…» Скажет эти слова тому, кого и поныне считают близким другом его. Настолько близким, что Гумилев именно его, Иванова, позовет помочь прибраться в квартире перед решающей встречей здесь с последней влюбленностью своей и, ожидая безоговорочной, не иначе, победы (кстати, всего после семи дней знакомства!), самонадеянно скажет: «Свидание состоится в пятницу, 5 августа, на Преображенской, 5, и, надеюсь, пройдет “на пять”…»
Преображенская, 5, – это как раз и есть дом №5 по нынешней улице Радищева, о котором речь и который в целости сохранился до сегодняшнего дня. Что же касается свидания, которого ждал поэт, то увы! Мы не знаем, пришла бы та, кого он ждал, или нет, знаем только, что встреча и не могла состояться. За два дня до нее Гумилева арестуют…
А за два года до этих событий, весной 1919-го, Гумилев с молодой женой действительно въедет в этот дом, в квартиру на втором этаже, которая до него принадлежала, говорят, брату недавнего, «распутинского» еще, премьер-министра России Штюрмера. Квартира была, как сказали бы ныне, «элитная», но что с того, если жить можно было, спасаясь от холода, только в одной комнате да в прихожей, которую поэт превратил в свой кабинет. А ведь оба, и Гумилев, и Аня Энгельгардт, были еще недавно людьми вполне состоятельными. У Энгельгардтов до революции имелся и дом в Смоленске, и земля, и даже дача в Финляндии. Имение как раз и предназначалось в приданое Ане, а дом в Смоленске – ее брату, но все в одночасье пропало. Счастье семейное, впрочем, окажется сомнительным, ибо Гумилев не только почти сразу станет ей изменять, но и довольно быстро потеряет к ней всякий интерес. Вс. Рождественский пишет, например, что Гумилев даже при посторонних мог сказать ей: «Ты, Аня, лучше помолчи! Когда ты молчишь, ты становишься вдвое красивее». Что говорить, если родной брат Ани через полвека напишет в одном письме: Гумилев «ошибся, избрав мою сестру», он «прельстился ее внешностью». Вот-вот! Красивой она была – это, как говорится, факт. И родила ему именно здесь, на Преображенской, красивую дочь. Кстати, поэт присутствовал при родах и вроде бы и хотел, чтобы родилась именно дочь. Пишут, что, передавая новорожденную Гумилеву, врач сказал: «Вот ваша мечта…»
Мечта? Знали бы все они, что в блокаду счетовод совхоза 2-го Медицинского института Елена Гумилева потеряет семейные карточки на хлеб, бросит мать, которая в одиночестве умрет от голода, а потом и сама скончается от истощения в 1942-м… Нет, еще и не так – все было страшнее: жену Гумилева найдут в пустой квартире, обглоданную крысами, и до сих пор неизвестно – умерла ли она от голода или стала беспомощной жертвой длиннохвостых тварей…
Это еще будет. Пока же Гумилев, отослав молодую жену с ребенком к матери в Бежецк, где легче было с едой, одиноко проживет на Преображенской целый год. На что жил? Как признался в одной анкете, распространенной среди писателей, – «рознично распродавал домашние вещи». Жил одиноко, но один бывал нечасто. Навещал Лозинского, переехавшего на новую квартиру (Каменноостровский пр., 75/16), Энгельгардтов, родителей жены, у которых останавливался в первые дни после возвращения из Лондона (ул. Чехова, 18/7), наконец, бывал на Дворцовой площади, в здании Главного штаба, у некоего Бориса Каплуна, куда ходил «забыться» – нюхать эфир[162]. А к нему домой, если не считать женщин, приходили поэты Мандельштам, Белый, Ходасевич, Оцуп. «Квартира была трепаная и обставленная чем попало, – пишет Георгий Иванов. – Хозяйство Гумилев вел весело. Любил приглашать к себе обедать и с церемонной любезностью потчевал пшенной кашей и селедкой. Если обедала дама, обязательно облачался во фрак и белый жилет и беседовал по-французски». Однажды Чуковский упадет от голода в обморок на пороге его подъезда (это, кажется, случится еще на Ивановской, на предыдущей квартире поэта). Очнется, как пишет, в роскошной постели, куда Гумилев торжественно подаст старинное, расписанное матовым золотом, чуть ли не музейное блюдо. «На нем был тончайший, как папиросная бумага, не ломтик, лепесток глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность той зимы». А когда Гумилев станет читать Чуковскому свою пьесу, в доме вырубят вдруг электричество – погаснет лампа. «И тут, – вспоминал Чуковский, – я стал свидетелем чуда: поэт и во тьме не перестал читать трагедию и все прозаические ремарки, стоявшие в скобках…»
Гумилев тоже бывал у Чуковского – тот, с женой и тремя детьми, жил неподалеку (Манежный пер., 6), в угловом доме на третьем этаже с балконом. Однажды у Чуковского встретится с Блоком, отношения с которым были в то время уже достаточно напряженными. Ничего, правда, не случилось, пишет Чуковский, в гостях у него они стали мило «ворковать», Блок говорил Гумилеву любезности, а Гумилев вроде бы сказал Блоку: вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные…
Время было голодное, настолько голодное, что в ноябре 1919 года у самого дома Чуковского пала лошадь, у которой немедленно кто-то вырезал из крупа фунтов десять мяса. Чуковский предположил еще, что это кто-то сделал не для себя – «для продажи». Так вот, в это голодное время, в том же ноябре 1919-го, Гумилев принес «в подарок» детям Чуковского полфунта крупы (продукты были из Бежецка, их привезла в Петербург жена поэта). Это в тот год дорогого стоило. Тогда же обмолвился Чуковскому, что у него кончились дрова и что он только что спалил в печке шкаф, который, увы, жару дал немного. Чуковский предложил взаймы 36 полешек и даже помог их привязать к детским санкам своего сына – иначе Гумилев не донес бы…
Потом, когда с продуктами станет полегче, он в «штюрмерской» квартире на Преображенской, в передней, превращенной в маленький кабинетик, всех угощал хлебом, поджаренным в печке, – накалывал его, как шашлык, на детскую саблю сына. Прямо над диванчиком висела здесь картина, изображавшая предков Гумилева, где какой-то дядя его, томно облокотившись на рояль, был без ног (художник то ли не успел, то ли забыл их нарисовать), и тут же, на полке, стоял детский барабан сына. «Не могу отвыкнуть, – шутил Гумилев, – человек военный, играю на нем по вечерам». Может, и играл, ему ведь вечно было, помните, тринадцать лет. Но за полночь поэты именно здесь читали стихи, спорили о любви. «Гумилев всегда был влюблен, – пишет Иванов. – Не понимал, как может быть иначе. Поэту это еще важнее, чем путешествовать…»