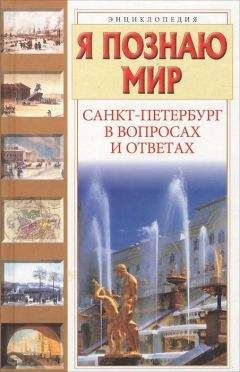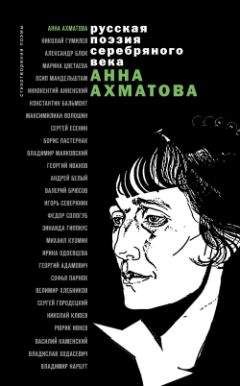Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Вообще здесь, на углу нынешних улиц Социалистической и Марата (Ивановской и Николаевской), в бывшей квартире поэта Сергея Маковского, бежавшего на юг из «красного Петрограда», Гумилев поселится, вернувшись из Лондона в 1918-м. Жил с новой женой, своей матерью, сыном Левушкой и семьей уже тяжело больного старшего брата. И здесь он скажет Георгию Иванову странную фразу: «В сущности, я – неудачник».
Вот тебе и раз – гадают ныне биографы! Делатель судьбы, чуть ли не с детства «державший Бога за бороду», знавший именно удачи в любви, в поэзии, в путешествиях и ратных подвигах (другим такие и не снились!), и вдруг – неудачник? Почему? Да потому, думается, что недооценил большевиков. Потому, что слишком удачливыми оказались как раз они, сумевшие за один всего год сломать в его жизни все: домашнее благополучие, существование его, похожее на бесконечный праздник, его свободу и то, что он особенно любил, – светский стиль жизни: фраки, смокинги, балы и выезды, сервированные столы и изящные вещицы. Теперь, в замершем от бесконечных испытаний Петрограде, один советский чиновник скажет ему, запихивая на его глазах в печь только что открывшегося городского крематория труп какого-то нищего: «Итак, последний становится первым…» Оба при этом посмеются циничной шутке со скрытым смыслом – кто был ничем, помните, тот станет всем. Но, с другой стороны, если последний стал первым, значит, первый, считай, должен стать последним? И не сквозь слезы ли смеялся этой остроте Гумилев? Ведь он всегда хотел быть (и главное – был!) именно первым.
Недооценил большевиков. Не то что его друг – дальновидный Маковский. Тот, знаете, из-за чего убежал из Петрограда? Из-за пустяка, случая, которого Гумилев, возможно, и не заметил бы. Просто как-то утром в феврале 1917-го Маковский вышел из квартиры и, как всегда, кликнул на углу у дома извозчика. «Ко мне подъехал “ванька”, – напишет он позже, – старенький, с седой всклокоченной бороденкой. И не успел он, сторговавшись со мной, отстегнуть полость саней, как слева подошли три каких-то субъекта, одетые в кожу, и большими ножницами (какими деревья подстригают) подрезали у лошадиной морды вожжи. Все – молча. Извозчик мой, значительно как-то посмотрев на забастовщиков, вылез из саней, встал посреди улицы и опустился на колени. Снял шапку, осенил себя знамением и поклонился, лбом прямо в снежную жижу. Откинувшись назад, произнес зычным голосом: “Спасибо, братцы! Началось. Помилуй, Господи!” Ни забастовщики, ни столпившиеся прохожие не отозвались ни словом… Ясно почувствовалось мне, что действительно “началось” и добром не кончится». Маковский почти сразу, упаковав чемоданы, бросив шикарную квартиру, дела, вместе с женой оказался в Ялте, а потом – в эмиграции. А Гумилев, искатель приключений, напротив, в апреле 1918-го вернувшись из-за границы, почти сразу въехал в эту квартиру. Проживет здесь меньше года, но за это время успеет развестись с Ахматовой и вновь жениться, издать новые книги стихов и переиздать старые (он заявил Г.Иванову: теперь его будет «кормить поэзия», и, по крайней мере, поначалу так и было!), перевести «Гильгамеша», основать поэтическую студию и стать членом коллегии издательства «Всемирная литература». Правда, тут он, всегда прежде франтоватый, успеет превратиться из изящного «англичанина» в «элегантном пальто и фетровой шляпе» в типичного петроградца тех лет: лоснящийся костюм, пузырящиеся на коленях брюки и стоптанные ботинки.
Впрочем, к Ахматовой он явится еще франтом. Она жила тогда у школьной подруги Вали Срезневской на Боткинской, и именно там, в одном из корпусов Военно-медицинской академии, в браке двух великих людей была поставлена точка. Накануне, впервые после Лондона встретившись с ним в какой-то комнате, которую он снял (ул. Марата, 2), Ахматова, так пишут, провела у него всю ночь. А на другой день, уже на Боткинской, проведя его в свою отдельную комнату, вдруг решительно сказала: «Дай мне развод!..» Он, вспоминала Анна Андреевна, страшно побледнел: «Пожалуйста». Не просил ни остаться, ничего не расспрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» Она ответила: «Да». – «Кто же он?» – «Шилейко». – «Не может быть! – крикнул Гумилев. – Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко…»
Так запомнила разговор она. Гумилев рассказывал потом поэтессе Одоевцевой иначе. Он якобы сказал Ахматовой: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе. Я тоже хочу жениться». Он сделал паузу, мучительно соображая – на ком, о господи? Чье имя назвать? Но нашелся: «На Анне Николаевне Энгельгардт. Да, я очень рад. Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко – катастрофа, а не муж». Знал, кстати, что говорил: Шилейко был одним из самых близких друзей Гумилева. Ахматова разведется потом и с Шилейко, это известно. Неизвестно другое: по любви или «назло», как говорила потом Ахматова, женился Гумилев на Энгельгардт, которую скоро все за глаза начнут называть «Анна вторая»?
У Гумилева было много женщин. И почти всегда – девицы. Этому удивлялась потом Ахматова, даже обсуждала сей факт с Лукницким – дескать, почему. Гумилев словно и здесь непременно хотел быть первым. А может, по-мужски мстил женщинам за то, что у Ахматовой он как раз первым не был. Не знаю. Знаю, что, влюбившись, он либо сразу становился женихом, либо предпринимал такой бурный штурм избранницы, что устоять было просто невозможно.
Смотрите, 14 мая 1916 года на лекции Брюсова в Тенишевском училище он знакомится сразу с двумя девушками – Ольгой Арбениной и Аней Энгельгардт[159]. Вернее, так: сначала он увидел в фойе Арбенину и, обомлев от красоты ее, бросился узнавать, кто это такая. Ему сказали – это Анечка Энгельгардт – девушек часто путали. Он попросил, чтобы его немедленно представили ей. К нему подвели Аню. Она тоже была очаровательной, «но ведь это же не та». И тут в фойе вновь возникла Ольга – та! Арбенина вспоминала: «Я увидела Аню, и рядом с нею стоял Гумилев… "Оля, Николай Степанович Гумилев просит меня тебе его представить”. Я обалдела!.. Известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой… и вдруг так на меня смотрит…»
Смотрит?! Гумилев действовал с бешеным натиском. Когда она, уже, кажется, нарочно, в третий раз выбралась в фойе, он преградил ей дорогу: «Я чувствую, что буду вас очень любить… Приходите завтра к Исаакиевскому собору…» И как бы между прочим сообщил, что чуть ли не вчера написал стихи дочери царя: «Написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой[160] – завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной». А в одну из следующих встреч специально долго «прогуливал» ее по холодному городу, чтобы она согласилась пойти в ресторан, согреться, да еще в отдельный кабинет, хотя Арбенина, как признается потом, бывала до этого в ресторанах только со своим дедушкой.