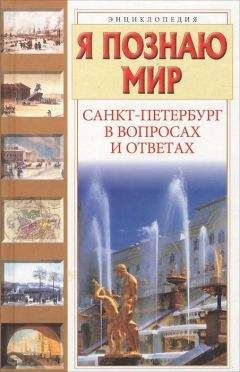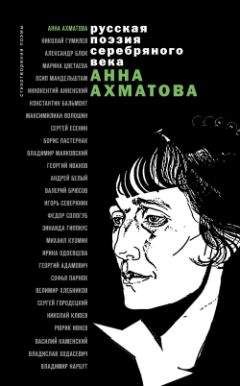Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Впрочем, интересней другое: Татьяна окажется учительницей – знаете кого? – Нины Берберовой! Та, девочкой еще, училась французскому в гимназии на Владимирском, как раз у Татьяны Адамович. И они были больше чем учительница и ученица – почти подруги. Если помнить, что Нина Берберова станет последней любовью поэта, то нельзя вновь не удивиться этим странным совпадениям в жизни Гумилева.
37. ГАФИЗ, ЛЕРИ И ДВА ГЕОРГИЯ… (Адрес четвертый: Литейный пр., 31, кв. 14)
«Смерть нужно заработать», – говорил Гумилев. Мне нравится эта фраза. Нельзя уходить из жизни за понюшку табака. Вот только как поэтам удается чуять, а порой и «видеть» свою смерть? Немыслимо, но Гумилев, оказавшись на фронте, вдруг напишет в письме: «Я знаю, смерть не здесь – не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете». Это не укладывается в голове. Как мог он за семь лет угадать «скупой и тусклый рассвет» на заброшенном полигоне, где его расстреляют чекисты; как мог, в другой раз, в стихах уже, предсказать, что умрет «не на постели, // При нотариусе и враче, // А в какой-нибудь дикой щели, // Утонувшей в густом плюще»?..
На Литейном, в доме №31, в августе 1916 года Гумилев поселяется на три месяца. Приехал в Петроград из действующей армии. Держать в Николаевском кавалерийском училище экзамены на корнета. Экзамены, а их было пятнадцать, не выдержал. Боялся испытания по «артиллерии» (об этом даже написал в записке Ахматовой), но завалил «тактику» и «топографию», а «фортификацию» даже и не сдавал уже. Последний предмет был посвящен исключительно оборонительным сооружениям, а Гумилев, так показала жизнь, не в обороне – в нападении был неотразим. Можно лишь улыбнуться тому, что экзаменов на корнета не сдал человек, который за один только год войны сумел заслужить два солдатских Георгия – за храбрость. Разве не это настоящий экзамен для мужчины?
Удивительно, но Гумилев еще до фронта был уверен, что станет Георгиевским кавалером. Поэт Михаил Зенкевич, встретив его еще в июле 1914 года в Гостином Дворе (Невский, 35), где тот покупал офицерские сапоги для фронта, услышал от него, что он поступил добровольцем в кавалерию, что Зенкевичу надо идти в авиацию (Гумилев бы и сам пошел, да не переносил высоты) и что там, на войне, он непременно получит Георгия. А вообще, Гумилев после Африки выбирал уже магистрали, а не закоулки; дороги, а не тротуары; гордое одиночество, а не мелькавшие перед носом спины толпы. Он и ходил-то теперь исключительно по проезжей части – это замечали многие. Жена его старшего брата, тоже, кстати, Анна Андреевна (опять совпадения!), писала, что он, вернувшись из последнего путешествия, привез не только попугая и чучело черной пантеры, но и шубу себе, сшитую из двух леопардовых шкур (один из леопардов был убит лично им), в которой расхаживал нараспашку «не но тротуару, а по мостовой». И всегда – с папиросой в зубах.
С папиросой в зубах он фланировал, и не раз, по брустверам окопов, за что ему постоянно влетало. Храбрый был человек![155] Много позже, в 1926-м, поэт Бенедикт Лившиц, также храбрый, удостоенный наград воин, а тогда, по словам Чуковского, «полнеющий пожилой еврей», скажет: «Только мы честно отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы сражались. Остальные поступили, как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком».
Святая правда! Маяковского, который еще недавно так горласто приветствовал войну, друзья пристроили в автомобильную роту, постоянно квартировавшую в Петрограде, Есенина – в санитарный поезд, Мандельштам и Пастернак вообще «косили» от армии, как сказали бы сегодня, – были больны. Конечно, знаем: война империалистическая, трон презираем, отказом служить можно было даже гордиться. И только Гумилев и Лившиц полезли в самое пекло. Причем Гумилеву этого надо было еще добиваться: он с 1907 года был вчистую освобожден от службы из-за астигматизма, а при поступлении в добровольцы (в «охотники», как тогда говорили) вынужден был еще из-за косоглазия получить разрешение стрелять с левого плеча. Получил, конечно!
«Он был одним из немногих, – пишет критик Левинсон, – чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание». Лозинскому, другу, Гумилев написал с фронта: «Это – лучшее время моей жизни. Оно… напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под обстрелом, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, – я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка». Конечно, кавалеристы, как писал Гумилев в «Записках», которые печатались в «Биржевых ведомостях», – «это веселая странствующая артель, с песнями, в несколько дней, кончающая прежде длительную работу». Конечно, слегка рисовался в письмах к «дорогой Аничке»: «Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин!» А рыжей красавице с зелеными глазами, Вере Неведомской, связь с которой до войны была несомненной даже для Ахматовой (она нашла не поддающееся двойному толкованию ее письмо к Гумилеву), вообще говорил, что война для него – лишь игра, веселая игра, где ставка – жизнь. Все так! Но только в 1916-м он стал посещать церкви почему-то в одиночестве. А однажды под пулями, на полном скаку, бессознательно сочинил какую-то свою молитву Богородице…
«Дорога к разъезду была отрезана, – вспоминал он. – Оставалось скакать прямо на немцев. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась, пули свистели мимо ушей, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Все это я запомнил лишь зрительной… памятью, осознал позже. Тогда я только… бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновению опасности». Да, «смерть надо заработать». Но ведь и честь надо «заработать»…
О, как встречали его в «Бродячей собаке»! Он приехал с фронта в командировку. С Ахматовой пришел в подвал в последний раз – «Собаку» закроют в 1915 году. Сказочный вечер! Свечи, голубые кольца сигарного дыма, тихий звон бокалов, стихи, слова восхищения и опять – стихи… Гумилев был в форме кавалериста и с первым пока Георгием на груди[156]. И форма, и награда очень шли ему, «поэту-ратнику». Над Петроградом кружилась метель, завеса снежного ветра, как занавес между войной и миром, а в подвальчике – музыка, остроты друзей, взрывы смеха, блестящие в полумраке глаза влюбленных в него женщин. Тоже своеобразный фронт, если знать, сколько романов он крутил одновременно. Еще не остыла его любовь к Татьяне Адамович, а он уже флиртует с дочерью архитектора Леонтия Бенуа, тоже, кстати, Анной, кружит голову начинающей поэтессе белокурой Марии Левберг, засматривается на Олечку Арбенину, из-за которой позже будет соперничать с Мандельштамом, выстраивает роман с Магой – поэтессой Маргаритой Тумповской. Наконец, в 1916-м покоряет девушку, которой Мандельштам посвятил мадригал и которую Есенин по-деревенски звал замуж, ту, с кем его через год разведут баррикады революции, – Ларису Рейснер, студентку Психоневрологического института, красавицу, поэтессу.