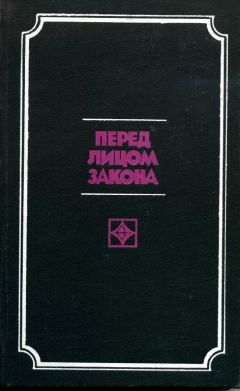Юрий Герт - Приговор
Он обернулся, услышав тихие шаги, поскрипывание песка, тоненькое повизгивание, которое издавала ручка цинкового, наполненного водой ведра. Между могильных, тоже недавно насыпанных, не успевших обрасти травой бугорков шла невысокая молодая женщина в темном ситцевом платье, застегнутом глухо, до самой шеи, круглой и белой. И лицо у неё было тоже — белое, матово-бледное, с прямыми, строгими бровями, с уложенными узлом пшеничными волосами. Она взглянула на Федорова, и он посторонился, пропуская ее к одному из двух кустов густо ветвящейся сирени, высаженных по бокам могильного изголовья. Женщина медленно, дожидаясь, чтобы вода успела всосаться, вылила ее из ведра на взрыхленную под кустом землю и, присев на корточки, принялась рыхлить почву под вторым кустом. В руке у нее был длинный, с широким лезвием кухонный нож. Федорова она не замечала. То есть, по всей видимости, ждала, чтобы он ушел, оставил ее одну.
И в том, какая неумелость сквозила в ее руках, по локоть покрытых серым налетом пыли, и в этом ноже взамен лопаты или мотыги явно ощущалось женское одиночество, еще не успевшее стать привычным.
— Вам помочь?— вырвалось у Федорова.
Вопрос был нелеп, если взять во внимание, что единственное, чего от него хотели, это — чтобы он ушел...
Она не ответила, даже как будто не слышала его слов. Она поднялась минуты две или три спустя, взяла ведро — и прежде, чем направиться к колонке, оглядела могилу печально и строго, по-хозяйски поправила покосившийся венок — точно таким движением, как если бы что-то поправляла, возвращала на положенное место в своем доме. И это ее движение снова дало понять Федорову, что он не у себя, что он пришел сюда без спросу и что ему следует уйти... Но уйти он не мог. Просто взять и уйти. Теперь. Он отступил на несколько шагов, обошел соседний холмик и еще один рядом с ним, пробежал глазами таблички на временных, пока осядет земля, памятничках и вернулся к могиле Стрепетова, когда она — женщина, жена, вдова (Федоров не любил этого слова) — опять появилась с ведром, полным поды. Он кашлянул, вытолкнул из горла густой, липкий ком и проговорил — хриплым, как бы надколотым голосом:
— Видите ли, я отец... У меня сын... Его подозревают, будто бы он участвовал... Будто бы он убил вашего мужа.
Наклоняя ведро, она широкой струей лила воду под куст, в ямку, из которой поднимался раздвоенный у основания стволик. Только после того, как из ведра вытекло все до капли, она поставила его на землю и разогнулась.
— Зачем же вы пришли?
В ее отрешенных темно-карих глазах не было ни укора, ни гнева, одно только вялое удивление ворохнулось в глубине зрачков.
— Он тут ни при чем, это ошибка,— сказал Федоров торопливо.— Это ошибка и это скоро выяснится...
— Какая разница — кто убил? И что теперь это изменит?..
— Вы правы... (Лучше бы она закричала, набросилась на него. Чем было ему отвечать — на эти мертвые, мертвым голосом произнесенные слова?). Но существует еще и понятие вины, справедливости... (Дьявольщина, что я такое мелю!..) Каждый обязан отвечать за свои поступки...
Что-то такое он говорил, городил, бормотал... И с каждым словом что-то обваливалось, рушилось у него внутри, он должен был — и не мог ничего сказать этой женщине. Но как раз эта его растерянность, неуклюжее бормотание заставили ее приподнять брови и задержать оживший и тут же погасший взгляд на его лице.
— Справедливость? Вы знаете, что это такое?
Бывают моменты, когда каждый мужчина, независимо от возраста и опыта, ощущает себя мальчишкой — перед женщиной, хотя бы и вдвое моложе его.
— Примерно,— сказал он.— Как и все. Но если разбираться всерьез...
Он отчетливо сознавал, что слова его пусты, она их не слышит.
— Никто ничего не знает,— сказала она.— Никто ничего не знает...— Она была много ниже его ростом и смотрела куда-то поверх его плеча.— Это я убила его,— сказала она. По ее прежде округлым, а теперь опавшим, как бы подсохшим щекам бежали мелкие, быстрые слезы.
— Вы?..— Он был уверен, что не понял, ослышался.— Убили?..
— Убила!..— сказала она убежденно, с ожесточением.— Я изменила ему... Это мне наказание!..
За годы журналистской работы Федоров привык не удивляться самым неожиданным признаниям. Знал он и то, что людям близким или хорошо знакомым человек зачастую не откроет того, о чем не задумываясь расскажет случайному соседу по купе, по самолетному креслу. И не окажись его рядом, то есть окажись вместо него кто-то другой, она все равно призналась бы — в своей вине, своем грехе, который к ее и без того нестерпимой боли прибавлял тайную для всех и потому вдвойне мучительную боль.
— Наказание? Вам? А — ему?..
Он кивнул на венки, на пирамидку.
— Не знаю. Я про себя говорю.
Страсть, с которой рванулись из нее последние слова, поразила Федорова. Она как бы отсекала ими возможность ускользнуть от себя самой, от кары за собственную вину.
Во всем этом не было смысла. Вернее, смысл был, но Федоров добрался до него только потом, потом... А пока он слушал Нину — так ее звали, как уловил он в какой-то момент,— слушал не к нему обращенный ее рассказ (да, именно так, бог ведает к кому, только не к нему обращенный!) — про то, как жили они с Андреем, и было у них двое детей, Катенька и Никитка, семи и одиннадцати лет, и дом, трехкомнатная квартира в микрорайоне. Андрей — лучше мужа и отца не придумаешь... И жили бы они, поживали и прожили бы свой, век — не счастливей всех, да счастливей многих. Только вот — случилось...
И опять-таки — не в ее рассказе было дело, не в заурядной, вполне современной истории, подобной множеству историй, где жены изменяют мужьям... И где ей, Нине, представилось Федорову, среди кухонной маяты магазинов, очередей, забот о детях и муже, то есть среди жизни однообразной и будничной, вдруг захотелось встряхнуться, расправить крылышки, пуститься в свободный, вольный полет, короче — ощутить себя женщиной — не хозяйкой, не матерью, не женой, а именно — женщиной. Такой, какой была она раньше, чем сделалась женой и матерью... И тут в чуть ли не мистической связи сомкнулись для нее два обстоятельства, между которыми, при сегодняшнем-то здравом смысле, и связи никакой уловить невозможно — между смертью мужа и ее изменой.
Он попробовал что-то сказать, но тут же пожалел об этом. Нина посмотрела на него чуждо и холодно, словно сердясь за то, что он ничего не понял.
— И все-таки,— повторил он мягко, как говорят с упрямыми детьми или больными,— вы здесь ни при чем. Вина у вас перед мужем, возможно, и была, но наказание... Вам и без того тяжко, а вы еще сами себя травите.
Ему хотелось, прикоснуться к ней, погладить по плечу, спине. Но чувство было такое, что дотронься он до нее — обожжется.