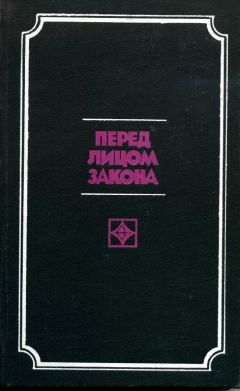Юрий Герт - Приговор
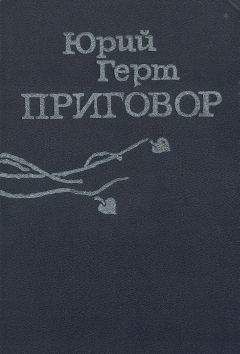
Обзор книги Юрий Герт - Приговор
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
То ли сны ому снились редко, то ли запоминал их Федоров с трудом... Но этот запомнился. Будто бы стоит он, топчется на остановке, вместо со всеми ждет автобуса, разглядывает привычные объявления о продаже породистых щенков, дач, магнитофонов, мебельных гарнитуров, и вдруг видит узенький бумажный лоскуток:
МЕНЯЮ СВОЮ СУДЬБУ НА ВАШУ
Странное объявление... И ни адреса, ни номера телефона... Ну и ну!..— вздыхает Федоров.—До чего же худо человеку живется, если он готов обменять свою судьбу на любую — по глядя!.. Надо бы его найти, надо бы ему помочь... И хочет он спросить о чем-то стоящих рядом, поворачивается, но автобус, должно быть, ушел, кругом ни души. Как же мне разыскать его? — думает Федоров.— Как узнать, кто этот человек?.. И внезапно замечает: почерк-то на объявлении знакомый, это его собственный почерк...
2Странным был не только сон, странно было, что приснился он еще до того, как Федорову стало известно, что произошло с Виктором, его сыном... Приснись он потом... Но это случилось раньше, когда Федоров, как писали в старину, «в самом безмятежном расположении духа» возвращался из Москвы домой на ТУ-154, затолкав под кресло между низеньких ножек сетку с апельсинами. В то время он еще ничего не знал, ни о чем не догадывался и, как часто бывает перед большими несчастьями, чувствовал себя совершенно счастливым человеком.
Впрочем, у него имелось для этого достаточно причин.
3Во-первых, в Москве, в редакции, куда он ездил на совещание собкоров, ему полностью удалось оправдаться по доводу статьи о Солнечном. Само по себе звучало это глупей глупого — «удалось оправдаться...» Оправдываться надлежало руководству комбината, «отцам города», прокуратуре, частенько закрывавшей глаза на то, что творилось у нее под носом, а если выше — обкому партии, министерству, короче — всем, кого задел, зацепил он в статье. И не «задел, зацепил», а хорошо-таки отмутузил, хотя многое из того, что следовало выдать напрямик, прочитывалось лишь между строк. Но как бы там ни было, на ковре очутился сам Федоров. Это ему предъявлены были обвинения — в отсутствии государственного подхода, в непонимании стоящих перед страной задач, в скороспелых обобщениях... У него и сейчас начинало поекивать, покалывать в груди, как тогда, когда он вытянул из портфеля папку с аккуратно подшитым досье и минут двадцать знакомил присутствующих, .с не упомянутыми в газете фактами. Недаром в редакции прозвали его «копушей», Федоров обычно подолгу собирал — «мусолил!»— материал, прежде чем разразиться статьей. И когда он кончил— разговор состоялся в кабинете Гаврилова, главного редактора,— Гаврилов несколько театрально развел длинными, как весла, руками (он сидел во главе стола, по одну сторону которого находился Федоров, по другую — его «оппоненты») и с эдакой грустноватой, даже сочувственной улыбкой на худощавом, не очень-то здоровом лице заявил, что заслушанного богатейшего материала хватило бы на целую серию статей, они же ограничились одной-единственной. И это все, за что, по его мнению, редакция заслуживает упрека. Он поднялся первым, «оппоненты» за ним... Но на прощание, когда они остались втроем, третьим был Феоктистов, первый зам. главного, «тонкий» и «толстый», так их называли в редакции,— Гаврилов, поигрывая очками, без которых его лицо выглядело еще более утомленным, глаза — красными, как от недосыпа,— Гаврилов сказал, что все еще только начинается, звонки (он кивнул на потолок) следуют за звонками, это помимо письменных опровержений, прямых угроз...
— В конце концов их тоже можно понять,— сказал Феоктистов, курносый, нос пятачком, с крохотными глазками, похожий на крепенького, нагулявшего на желудях жирок боровка. — Что им теперь, комбинат закрывать? Кто допустит?
— А это?..— Федоров поболтал перед ним портфелем с досье.— Это допускать можно?..
— Ну, будь,— сказал Гаврилов, проводив его до двери.— Ты там, на месте, держись, Алексей Макарович, И смотри, не давай повода... Понадобится — звони, в обиду не дадим.
— Да я и сам не дамся,— сказал Федоров, крепко и с удовольствием, Гаврилов ему нравился, пожимая протянутую руку.— Не впервой...
Так что в самолете — не слишком, впрочем, обольщаясь заранее — Федоров чувствовал себя победителем... Но это было еще не все.
4В Москве ему все-таки удалось встретиться с Робертом Гроссом. «Все-таки», поскольку Роберт никак не мог вырваться из своей редакции, из своего мокнущего под весенними дождями Берлина, но прилетел наконец на три дня, трое суток, и они, как юные любовники, эти трое суток провели почти не расставаясь, Роберт провожал его в аэропорт и до самого контроля не выпускал из рук сетку с апельсинами, а потом, уступая дорогу торопящимся пассажирам, стоял, возвышаясь над ними, сухощавый, седой, синеглазый, и как-то совершенно по-мальчишески, во все лицо улыбаясь, помахивал ему вслед своей серой, с голубым отливом шляпой.
Они просидели трое суток у Федорова в номере, обсуждая готовые главы книги, мысль о которой возникла у них при первом же знакомстве — в Болгарии, на «Золотых песках», в международном Доме отдыха журналистов. Здесь, в баре, они случайно разговорились — и сразу понравились друг другу. Федорову представилось, что седой немец с моложавым лицом и мечтательными глазами был когда-то похож на юного Шиллера, стоило вообразить его в крылатке, с обмотанным вокруг шеи шарфом... Но на маленьком архивном фото, которое Роберт показал ему однажды в Берлине, не было ни шарфа, ни крылатки — был обритый наголо каторжник в полосатой робе, старик с шеей цыпленка и торчащими в стороны хрящами ушей,— Роберту едва исполнилось шестнадцать, когда он угодил в концлагерь. Тогда, в первую встречу, кто-то из них высказал мысль, в которой, как в почке листок, содержалась их будущая книга, и другой принялся развивать ее дальше, и оба радовались не только сходству, а зачастую и прямому совпадению своих мыслей, и само собой вышло, что кто-то из них заговорил о книге... Теперь ее ждали — в Москве и в Берлине, оставалось дописать последнюю главу. «Предостережение», а в немецком варианте «Der Mahnruf» — так называлась их книга.
5Теперь, в самолете, он с удовольствием вспоминал и о Роберте, и об этой книге, и даже о сроке, довольно жестком, в который предстояло уложиться... Это было во-вторых. Он мог сосредоточиться на последней главе, не думая о редакционных заданиях, о внезапных командировках, о жалобах и письмах, с которыми обращались к нему, как обращаются к собкору любой центральной газеты, надеясь отыскать там высшую справедливость,— с завтрашнего дня начинался его отпуск. Он видел перед собой кабинет с умолкшим телефоном, косой солнечный луч на светлой, из карпатского бука столешнице, машинку и чашечку с остывающим кофе... Он привык его нить фаянсовыми кружками, из которых где-нибудь на Западе по утрам пьют молоко, и это ужасало Роберта в первое время их знакомства. Но теперь Федоров ставил рядом с машинкой вполне европейскую чашечку кофе — преимущественно для аромата. Что ему оставалось после прошлогоднего инфаркта, какие утехи в жизни — без кофе и сигарет?.. Работа! Но не любая и не везде... Был его дом, где только и работалось ему по настоящему. И это было в-третьих: он радовался, что летит домой.