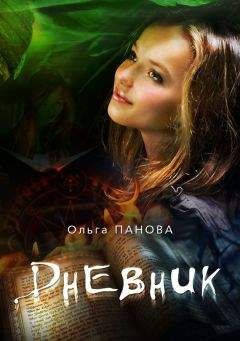Ольга Камаева - Eлка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы
Почему не ввести, например, психологический практикум? Студенты разыгрывали бы сценки, сами искали решение. Одну темку уже могу подкинуть: напакостничали деточки, а виновных не выдают. Пусть бы будущие педагоги заранее голову поломали.
А то стоишь потом перед классом как дура.
Неудивительно, что еще перед дипломом больше половины нашей группы заявило: в школу — ни ногой! На самом деле в «рассаднике образования», как любил выражаться наш куратор Слава КПСС (Вячеслав Николаевич, в советское время истово преподававший историю КПСС, а затем с тем же азартом — историю России, причем роль партии по привычке подчеркивалась им в лекциях с интервалом максимум в пять минут), нас оказалось еще меньше: из восемнадцати человек всего трое — Зимина, Тополев и я.
Димку мы вообще сначала не поняли: подался в глухую деревню — это он-то, активист-экспрессионист! Расклад выяснился довольно быстро. На очередном узком междусобойчике человек эдак на десять Димка, будучи в сильном подпитии, проболтался: все давно на мази. Знакомая грандесса из гороно обещала: полгода поработаешь там учителем, затем годик директором (весь курс до самого выпуска его цитировал: «Я говорю: чего ждать, назначайте сразу, у меня потенциал о-го-го! А она мне: потенциал и потенция — разные вещи, полгодика потерпишь…»). Ну а дальше, с такой-то правильной трудовой биографией торная дорога — хочешь, в гороно, а потянешь, так, может, и в местное министерство.
А мы с Маринкой пошли в школу просто учить детей. Димка все пытался отговорить, раскладывал по полочкам: мотивация романтична, значит, недолговечна; материальное поощрение мизерно; моральное не гарантировано; конечный результат невнятен.
Маринка подсмеивалась: ага, чтобы из группы ты один в школе оказался? Бессмертной славы захотел?
Не думаю, он ведь все правильно говорил. Просто мы надеялись: у нас получится. И вдруг что-то изменится.
22 октября
Пишу мало, очень хочу спать.
Полдня ходила с ватной головой — опять до полночи репетировала урок. Старалась потише, но то и дело с шепота переходила на голос, хорошо еще, маму не разбудила. Иногда даже начинала руками махать. Со стороны — смех, да и только: толкаю на постели речи, точно Ленин на броневике.
Но иначе — как? Права Танюша: если сама к уроку не готова, то и спрашивать не имеешь права. А если знаешь, что сказать, если каждая минута расписана и дорога, то и у детей будет интерес. Поставить этот «паровоз» на рельсы действительно первое дело, а уж он потом потянет за собой «вагоны»: уважение, внимание, дисциплину, потому что некогда будет дурака валять.
Еще поняла: учителю нужно хоть немного стать артистом, ведь у доски — как на сцене. И в моей власти рассказать так, чтобы ребята пусть лишь (нет, слава богу!) в своем воображении увидели и убогий крестьянский быт, и залитый кровью Мамаев курган, и детишек, задыхающихся в газовых камерах Освенцима… Пропустили это не только через ум, но и через сердце. Пережили радость открытий и достижений, возмущение тиранией и бесправием.
Но стоит немного схалтурить — жди безжалостного «Не верю!». И тогда всё — опыт, знания, миллионы человеческих судеб, — всё проходит мимо.
23 октября
Сергей не приходил и не звонил. Наверное, не выдержу и спрошу про него у Маши. Но как же не хочется обрекать себя на многозначительные взгляды и пусть осторожные, но неизбежные расспросы!
Мама считает, что моя скрытность — своего рода осложнение болезни: подружек из-за нее у меня было мало, вот и не научилась секретничать. И отчасти мама права, но главной причины не знает даже она.
Случилось это, когда мне было семь лет, как раз перед тем, как пойти в школу. В то лето у нас со Светкой, гостившей у своей бабушки, главным развлечением стало весьма затягивающее занятие: мы рыли пещеры в отвале у разрытой траншеи. В доме меняли трубы, но днем рабочие ребятню и близко не подпускали — мало ли что. Зато вечером рыхлая, влажная насыпь поступала в наше полное распоряжение.
Мы выкапывали большой грот, а затем долго и кропотливо занимались его обустройством. Обрезки утеплителя, ржавые гайки, обрывки цветных картонок, щепки превращались у нас в роскошную мебель, и мы без устали ее переставляли, наводя в пещере уют и порядок. Сорные травинки распускались шикарными пальмами, а натыканные в землю березовые листочки карабкались по склону тенистой аллеей. На следующий день наши парки вяли, «мебель» казалось убогой, и мы без сожаления все крушили, уверенные: сегодня обязательно построим лучше.
И строили. Не каждая свое, а непременно вместе. Со Светкой мы считались закадычными подружками, и общая возня доставляла нам радость. Иногда мы спорили, но никогда не ссорились, и, хотя бойкая Светка имела все шансы верховодить, она никогда ими не пользовалась. Наверное, понимала, что помыкать собой я не позволю, и, даже если не дам сдачи, то вместе играть потом точно не стану. Я отвечала ей за это понимание тихой благодарностью и той неистовой преданностью, на которую только способен ребенок, принявший дружбу как бесценный дар. В детстве вообще все гораздо острее: чувства — глубже, запахи — резче, цвета — ярче. Поры открыты, короста пресыщения и равнодушия еще не сковала душу, и потому детям все интересно, все их касается, до всего им есть дело. Они еще не научились рожу выдавать за лик; молчать, когда больно или несправедливо; не свили себе теплый и уютный кокон лицемерных умозаключений, надежно ограждающий от истинного, но такого беспокойного…
Тем больнее в детстве пережить предательство.
А получилось все из-за той самой пещеры. Гордость ее меблировки составлял найденный там же, среди прочего вывороченного на белый свет мусора, простенький флакончик из-под духов, нашим неистощимым воображением обращенный в старинную фарфоровую вазу. Желание придать ей еще больший шик и толкнуло нас на маленькое преступление.
Около подъезда в небольшом палисаднике одной из соседок было разбито несколько клумб. И цветы, и их хозяйка отличались неуемной буйностью: первые — своего роста, вторая — темперамента. Связываться с теть Клавой в доме решались немногие, даже если дело считалось беспроигрышным. Сначала пришлось бы пережить извержение вулкана, потом годы поджариваться на горячей лаве из беспочвенных сплетен и склок, поэтому большинство предпочитало сразу посыпать голову пеплом в память о своих претензиях к вредной соседке.
Но цветы примиряли ее с самыми злейшими врагами, и кое-кто не гнушался пользоваться этой единственной слабостью старой девы. За редкие сортовые семена или луковички она отпускала дарителю все его совершенные и мнимые грехи, а во время вечерних посиделок на лавочке накладывала в отношении него обет молчания.