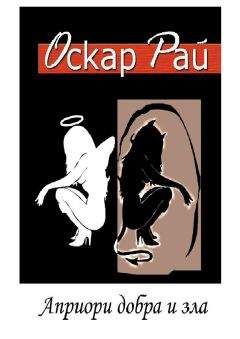Екатерина Мурашова - Одно чудо на всю жизнь
— Ну, Андрей Палыч, чем сегодня богаты? — Виктор Трофимович дожевал домашний пирожок, вытер уголки губ носовым платком и взглянул на молодого милиционера безо всякого интереса.
— Опять двух алкашей обработали.
— Живы?
— Один жив, в больницу отвезли, а другой лежал головой в луже, то ли сам захлебнулся, то ли…
— Ясненько-колбасненько, мир его заблудшей душе…
— Я не понимаю, Виктор Трофимович, чего они там думают! — в голосе милиционера неожиданно зазвучали смешные капризные нотки. — Это же пятнадцать случаев за полгода! Надо что-то делать!
— Надо, — равнодушно согласился Виктор Трофимович и почесал лысину. — Пирожок хочешь? Ещё один с капустой остался. Ангелина вчера пекла…
— Да не хочу я пирожок! — молодой милиционер явно заводился. — Пусть они бомжи, пусть алкаши, но ведь — тоже люди. Граждане, в конце концов. А старушки, у которых пенсию отбирают? Закон-то для всех един!
— Чего ты от меня-то хочешь, Андрей? — рассудительно спросил Виктор Трофимович. — Я — участковый. Я сто раз сигнализировал, десять раз ориентировку давал, всё, что знал, рассказывал всем, кто спрашивал. Дела, сам знаешь, не я завожу, не я веду.
— Но ведь вы знаете, я знаю, все знают…
— И ты знаешь? Ну хорошо, тогда расскажи мне, старому, что с этим делать. Или хотя бы как сделать так, чтобы они все под суд пошли. А я потом, так и быть, следователю с опергруппой перескажу…
— Да ведь на каждый случай по десятку свидетелей!
— Чего свидетелей? Как кто-то кого-то бил? Ну и что с того? Опознать-то эту рвань наверняка всё равно никто не может. Они же в темноте все одинаковые. Да и боятся люди. Они же — стая. А у всех — жёны, дети…
— Господи, бред какой-то! Сами же первые должны быть заинтересованы, чтобы эту погань извели…
— Ты что, Андрюша, осуждаешь кого? Не знаешь, как люди живут?
— Да не жизнь это вообще, если так!
— Ну, ты молодой, попробуй в Финляндию эмигрируй. Там, рассказывают, всё как у нас, только спокойно… Выучишь финский язык, женишься на финке, нарожаешь финчат, будешь им на ночь «Калевалу»[16] читать…
— Да прекратите вы издеваться, Виктор Трофимович, без вас тошно! Неужели ничего с этими… этими… сделать нельзя?
— Отчего же нельзя? Можно. Пробуем помаленьку. Рано или поздно сделается.
— Да откуда они вообще взялись на нашу голову?!
— Кто? Лисы? Бригада их? Дак они местные, ниоткуда не взялись. Младший вообще тут родился. Ну, а то, что вокруг них, так это, сам понимаешь, по-разному. Кто из посёлков, кто — наша голытьба, а есть, говорят, и из Питера…
— А началось-то с чего? Когда?
— Началось, Андрюша, когда тебя здесь ещё не было. Ты тогда ещё в школе своей учился. Когда точно — не помню, потому что и мы не сразу въехали. Беспризорников-то у нас с начала перестройки хватает, да и прочие всякие шалили всегда. Вон, у перекрестка, где семнадцатое училище, да «тройка»[17], да техникум сельскохозяйственный, — редкое воскресенье, чтоб кому-нибудь башку не проломили или ещё чего похуже. А братья Лисы — это особая история.
— Сколько их всего-то? Я разное слышал.
— Всего их трое. Из наших клиентов — один, Старший Лис. Второй подрастает — Младший.
— А ещё кто? Средний?
— Не. Ещё есть Большой Лис.
— Запутался. Кто ж из них старший-то?
— Старший — Старший и есть. Большой Лис — больной, умственно отсталый. А Старшего ты живьём видел?
— Нет, на карточке только. Я ещё подумал, что он на зверька какого-то похож. Злобного.
— Впечатляющее зрелище, я на суде видал.
— Так суд был?!
— А ты как думал? Совсем милиция мышей не ловит? Полтора года назад. Все фигуранты — несовершеннолетние. Лисы — это вообще песня. В Питере огромная статья была, в «Комсомолке», кажется. Называлась: «Дети платят за грехи отцов».
— Ну, и чем кончилось?
— Да ничем. Какое-то количество в колонию пошло. По Старшему Лису ни одного эпизода доказать не удалось. Следствие на пупе извернулось, привязали что-то. В колонию его не взяли, сунули в больницу. Большого Лиса — в интернат. Младшего — в детдом.
— А потом?
— Потом — Старший из больницы сбежал, отрыл где-то заначку, или грабанул кого по дороге. Выкупил Большого из интерната. А Младшего они совместно из детдома попросту украли. Ну, он сам не шибко сопротивлялся, потому что братья…
— А почему — Лисы?
— Так они и вправду — Лисы. Фамилия такая — братья Лис. Немцы они по отцу. Ты не знал? А как их зовут — знаешь? Генрих, Вальтер и Иоганн. Вот так. Папаша ихний один из первых предпринимателей был в нашем Озерске. Ресторан держал, и бензоколонку на въезде, и ещё что-то. К лесу подбирался, расширяться хотел, тут что-то и застопорилось. Пересеклись интересы, то ли с питерскими бандюганами, то ли вообще с международниками[18]. Кокнули его вместе с женой, дай Бог памяти, году в девяносто втором… Убийц, ясненько-колбасненько, не нашли…
— А дети? Как же их-то?
— А они сбежали. И где-то почти год хоронились. Я так думаю, что у Старшего-то точно крыша от всего этого отъехала. Судя по его последующим действиям.
Больше всего на свете Генка ненавидел общественный транспорт. Вонючие, замасленные куртки, полузастёгнутые ширинки, шершавые пальто, пояса которых царапают щёки, огромные сумки, которые норовят поставить тебе на голову… Неужели придётся ехать?!
И ещё проблема — менты. Ментов Генка ненавидел тоже. Ещё он ненавидел алкашей, стариков и старух, бомжей, бандитов, тёток, от которых воняет духами, ухоженных, чистеньких детишек с портфельчиками и без — в общем, устав от перечисления, можно сказать, что Генка ненавидел почти весь мир. В этом жутковатом калейдоскопе Генкиной ненависти было два исключения: Валька и Ёська. Теперь вот ещё Вилли появился. Генка изо всех сил старался, чтобы об исключениях знало как можно меньше народу. Любая привязанность — это слабость, ниточка, за которую можно потянуть. Генка категорически не желал, чтобы кто-нибудь тянул его за ниточку. Генка желал дергать за ниточки сам.
Прежде, чем что-то решать, следовало отыскать Ёську, поговорить с ним. Найти Ёську просто — наверняка с новой книжкой у пруда сидит. Спрыгнув со стула, Генка распахнул дверь и на несколько секунд замер на деревянном высоком крыльце, готовясь к спуску. Справа между стволами сосен поблескивала поверхность озера, слева стояли три заколоченных корпуса, а прямо перед Генкой, метрах в пяти от крыльца, маячил скрытый под зелёной крышей умывальник с семью расположенными в ряд кранами и жестяным желобом для стока воды. Пахло водой и опавшими листьями. Генка вдохнул терпкий осенний воздух и, кряхтя, начал спускаться с крыльца.