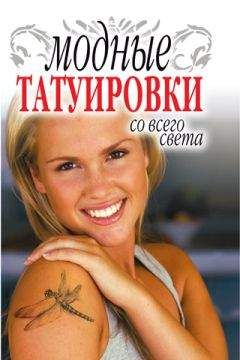Вениамин Каверин - Косой дождь

Обзор книги Вениамин Каверин - Косой дождь
Каверин Вениамин Александрович
Художник Д. АНИКЕЕВ
КОСОЙ ДОЖДЬ
1
Игорь ходил в демисезонном пальто, и Валерия Константиновна надеялась уговорить его купить зимнее — не заставить, конечно (это было невозможно), а именно уговорить. Но уговорил как раз Игорь.
Он притащил откуда-то карты, книги, и она прочитала «Образы Италии» Муратова, а он еще два десятка других книг, интересных и неинтересных.
Каждый вечер они «отправлялись в Италию»!
— Ну, поехали, мать, — говорил он с широко открытыми глазами, которые открывались еще шире, когда что-нибудь новое или неожиданное поражало его.
В Риме прямо с вокзала Термини они отправлялись на Форум Романум и долго бродили по виа Сакра, стараясь запомнить, что слева находятся руины Дома весталок, а справа — храм Антонина Пия. Старалась, впрочем, только Валерия Константиновна.
— Мама, ведь ты же это учила, — говорил Игорь с отчаянием, когда она путала коринфские колонны храма Диоскуров с ионическими храма Сатурна.
Это было поразительно, что римляне до сих пор пили воду из Аква Вирго — водопровода, построенного еще в первом веке. «Мать, учти! В первом! До нашей эры!» Она учитывала.
Во Флоренции они «провожали» солнце на площади Микеланджело — согласно путеводителю это было одним из самых сильных итальянских впечатлений. Подъезжая к Сорренто, они вдоволь налюбовались «изумрудными переливами» моря, а на Капри побывали в Лазурном гроте, где в таинственной темноте люди фосфоресцируют, как воздушные тени. Так, по крайней мере, утверждал Игорь, а уж ему-то можно поверить. Ему еще не было семнадцати, но он уже знал в сто раз больше, чем Валерия Константиновна с ее высшим образованием — она окончила текстильный институт. Когда кому-нибудь из соседей по квартире нужно было выяснить, что такое «цебертизация» или где находится самая большая в мире коллекция солнечных часов, другой сосед говорил: «Спросите у Игоря».
Он был похож на мать — к счастью, не на отца.
Он говорил, не поспевая за мыслью, ему хотелось, чтобы все на свете происходило быстрее. Еще в третьем классе он украсил вазу, которую рисовал класс, усами и остроконечной бородкой, превратив ее в потолстевшего, с румяными щечками д'Артаньяна. Это было скучно — рисовать обыкновенную вазу, которую можно купить или продать. Его вазу нельзя было ни купить, ни продать. Она напоминала о веревочных лестницах, заговорах, дуэлях.
Однажды Валерия Константиновна слышала, как у киоска с минеральными водами он сказал приятелю: «Между прочим, это лучшие в мире минеральные воды».
Она рассказала ему о своем отце, который был бродячим красильщиком, обошел всю Россию и еще в двадцатых годах ездил из деревни в деревню со своими красками и чанами. Игорь преобразил деда: все, что красил дед, никогда не линяло. Пока нитки, одежда, холсты кипели в чанах, он рассказывал сказки. Да, он был не только красильщиком! Когда он уезжал, вся деревня провожала его в голубых, зеленых, желтых, красных и синих рубашках, кофтах и платках.
Мать была художницей по тканям, и Игорь доказывал, что она унаследовала профессию деда. Сам он не только раскрашивал мир, но устраивал его по-своему, дополнял, улучшал. И Валерия Константиновна думала, что она сама виновата в том, что у сына развилась эта склонность — опасная, потому что она коснулась того, о чем Валерия Константиновна размышляла неотступно и неустанно.
2
С раздражающей ясностью она помнила ту последнюю военную зиму, тот рассеянный свет ни ночи, ни дня, который она ненавидела, потому что даже не знала, когда это произошло — днем или ночью. С утра над базой летал немецкий разведчик: матросы почему-то называли его «кривая нога». На бледном небе медленно расплывались волнистые линии — пунктир воздушного боя.
Валерия Константиновна работала машинисткой в редакции. Она печатала и все поглядывала в окно. Мостик через овраг был занесен почти до перил. Пожилой моряк с зелеными табачными усами прошел, чертыхаясь, по колено в снегу и вдруг, хохоча, подхватил мальчика в шубке, стоявшего у крыльца редакции и перевязанного крест-накрест большим шерстяным платком. Мальчик привычно отбивался: на базе почти не было детей. «Сейчас, в грозные дни напряженных боев на юге...» — печатала Валерия Константиновна. Андрея все не было. Низкое темное облачко остановилось над морем, потом двинулось к берегу. Вдруг загудело, засвистело, задуло, все стало плывущим, безостановочным, неутихающим, снежным.
Теперь она поняла, что катер не придет и, стало быть, сегодня не увидит Андрея. Но катер пришел. «На днях опубликовали англо-советское коммюнике о переговорах премьер-министра Великобритании...» — печатала она, когда он приоткрыл дверь, заглянул, улыбаясь, и, не заходя, стал сбивать снег рукавицей с полушубка и шапки. Он был тоненький, с легкой походкой, с вьющимися, падающими на лоб волосами.
В клубе шел спектакль «Слуга двух господ», но играли так плохо, что они ушли после первого акта. Может быть, они ушли не потому, что играли так плохо.
Валерия Константиновна жила в деревянном домике с высоким крыльцом. Лестница обледенела, они поднялись, держась друг за друга. Она жила с Катей, тоже редакционной машинисткой, рядом — военные корреспонденты, а в третьей комнате, самой большой, — командир подлодки. Он часто бывал в походах, и девушки следили за комнатой, вытирали пыль, а иногда даже мыли пол и окна.
У Валерии Константиновны было холодно, она принесла из кухни электрическую плитку. Они грели руки над плиткой, а потом Андрей накинул на нее свой полушубок и пристроился рядом — очень скромно, только взял ее руку в свои. В нем было что-то изящное, светлое. Прежде он почти не говорил о себе, а в этот вечер заговорил — и ей понравилось, как он рассказывал о матери и маленьком брате. Он был мурманский. Отец умер рано, мать работала в больнице, сперва сиделкой, потом кухаркой. Второй раз она вышла замуж за официанта-грузина, и отчим отправил его в Озургеты. Он был тогда еще совсем маленький и почти разучился по-русски. Потом пришлось снова учиться. Но легкий грузинский акцент так и остался.
— Вы не слышите?
— Нет.
Потом они пошли в комнату командира подводной лодки и сидели там, не зажигая света. Когда Андрей стал целовать ее, она повернула выключатель, и оказалось, что свет не горит. День кончился, наступил вечер, а потом ночь или, может быть, новый день. На базу опять обрушился снежный заряд, и вихрь, взвиваясь и опрокидываясь, помчался мимо окна безостановочно и неутомимо.
Катер уходил в шесть утра, они расстались, а через неделю Андрея вызвали в штаб: с наблюдательного пункта разведчики доставили на его батарею какие-то расчеты, и он потерял листок, на котором они были записаны.
— Потерял, и все, — грубо и беспомощно сказал он Валерии Константиновне.
Он пришел к ней пьяный, и с тех пор она ни разу не видела его трезвым. Как он пил! Как страшно вздрагивали у него веки, когда он вглядывался в нее, не узнавая. Валерия Константиновна стала запираться от него — она боялась пьяных. Однажды он взломал дверь. И все-таки она еще жалела его, уговаривала, стыдила.
Потом ей сказали, что Андрей тайком от нее приезжает на базу и останавливается у продавщицы военторга. Они вместе пьют, и однажды патруль отвел на гауптвахту обоих.
Когда больше нельзя было скрывать беременность, Валерия Константиновна уехала в Москву.
3
Среди несчастий тех лет ей запомнился приезд Андрея. Война кончилась. Он явился подтянутый, в форме; тогда его еще не списали с флота. В неприбранной комнате было холодно. Игорь кричал, потому что молока не было и некогда было с утра сбегать в молочную кухню. Все же они поговорили. Он — беспечно, она — не веря глазам, поражаясь тому, что была близка с этим ничтожеством, с этим бледным, быстро лысеющим человеком, который, едва взглянув на ребенка, даже не спросил, как прошли эти два трудных года. Вечером он явился пьяный, она выставила его, и неверными шагами он ушел из ее комнаты, из дома, в котором она жила, из ее сознания, существования. Ей просто некогда было думать о нем. Нужно было стирать белье, мыть пол, кормить Игоря. А потом, когда мальчик подрос, нужно было подумать о работе, которая не помешала бы ей, а, напротив, помогла учиться.
Так прошли эти годы, превратившие ее в сильную, много перенесшую, но ничуть не согнувшуюся женщину. Она была еще привлекательна, с румянцем на крепких щеках, с седой прядью, подчеркивавшей моложавость. В ней была прелесть женственности, она нравилась — и даже однажды чуть не вышла замуж за товарища по работе, инженера-текстильщика. который несколько лет убеждал ее, что они должны пожениться. Но инженер устроил нечто вроде помолвки, и на этой помолвке ей вдруг показалось, что она влюблена вовсе не в него, а в его отца, старого оркестранта, танцевавшего с ней старомодно-прямо, держа ее в твердых руках, которые она чувствовала сквозь тонкую материю платья...