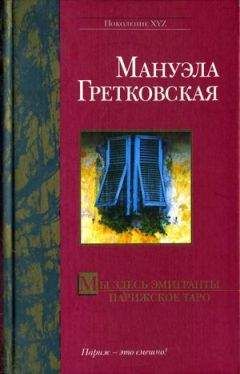Мануэла Гретковская - Парижское таро
Михал, лежа на ковре, чистил мандарины.
— Мне кажется, это было не вежливо, а просто глупо.
— Да ладно, Ксавье, не преувеличивай, — очнулся от раздумий Томас, — нет там никакой порнографии.
— Не-ет? — усомнился Михал, выдавливая мандариновый сок прямо себе в рот.
— На этой Земле существуют три вещи, — объяснял швейцарец, — которые, согласно Талмуду, сохранятся также в будущем мире: солнце, шабат и сексуальные отношения.
— А ты бы не мог вместо медицинских «сексуальных отношений» выразиться по-человечески: «любовь»?
— Шарлотта, не мешай. — Ксавье попытался засунуть мою голову под одеяло.
— Как вам угодно, — согласился Томас. — Так вот, в будущем мире будет солнце, похожее на наше, но более ясное. Там будет шабат, но шабат совершенный. В бренном мире даже самый набожный еврей не соблюдает шабат во всей его святости, ведь он не в состоянии выполнить все диктуемые Законом обряды. Земная любовь — тоже лишь несовершенное отражение любви истинной, реализующейся в совершенном сексуальном акте будущего мира.
— Ну, Томас, давай рассуждать логически. — Михал облокотился о кровать и принялся объяснять нам свои сомнения с помощью разложенной на одеяле и простыне апельсиновой кожуры. — Синее одеяло — мир сегодняшний, серая простыня — будущий.
— Розовая, — прошипела я.
— Не важно, — отмахнулся он, но все же пригляделся внимательнее. — Ну хорошо, пусть будет грязно-розовая. Маленькие кусочки кожуры на одеяле, вот эти три — солнце, шабат, любовь — сохранятся и на простыне, но увеличатся. Остальная кожура — порнография, заяц, стакан и так далее — оттуда исчезнет. Другими словами, в будущем порнографии, может, и не будет, но пока она есть. Логично, а?
— Логично, — признал Ксавье.
— Подождите, я еще не закончил. Настоящая любовь — любовь совершенная. — Томас говорил медленно, обдумывая каждое слово, словно переводил на иностранный язык, который плохо знал. — Наша земная любовь — лишь ее карикатура, то есть каждая наша любовь является порнографическим актом, извращающим чистоту и красоту сексуальных отношений в совершенном мире. Следовательно, или все мы более или менее порнографичны, или должны отказаться от этого определения и признать, что мы несовершенные любовники, ибо несовершенна наша любовь. Я закончил. Логично?
Вопрос был адресован Михалу, который нервно чистил мандарины.
— Логично, — согласился тот, — но неверно. Получается или что моя жена была порнозвездой, или что я никогда ее не любил по-настоящему и Эва правильно сделала, что меня бросила. А я люблю и любил ее не какой-то там убогой любовью, а обыкновенной, нормальной, истинной любовью, то есть самой совершенной!
Вид у Томаса, который сидел по другую сторону кровати, делался все более разочарованный.
— Я не о твоем браке. Я хотел объяснить, почему книги Габриэли не есть порнография. Она описывает несовершенную любовь, самые трагические ее случаи, потому что они наиболее далеки от совершенных сексуальных отношений, и поэтому в ее текстах столько эротических сцен — ведь любовники пытаются достичь совершенства.
Ксавье соскочил с кровати:
— Десять часов, я опаздываю. Через пятнадцать минут мне надо быть в столярной мастерской. С Талмудом я не знаком, а с Габриэлью — да, кошмарный бабец, так что, Шарлотта, mon amour,[19] меня к ужину не ждите.
— Мне тоже пора. — Томас собрал на поднос чашки и поднялся.
Михал бросил туда же кожуру и хлебные крошки.
— Значит, я тебе сегодня не нужен? — Он выглянул из-за двери.
— Твоя модель интересуется, выходной у нее сегодня или нет, — крикнула я в сторону шкафа, где Ксавье раскидывал вещи в поисках джинсов. Он не расслышал вопроса, поскольку в этот момент как раз протискивался между прогибавшимися под зимними пальто вешалками.
— Чего? А-а-а, Михал, мы будем лепить только в субботу.
— Вставай, Шарлотта, я выведу тебя на прогулку, — улыбнулся Михал, закрывая дверь.
Ксавье, ругаясь, обыскивал коробки под кроватью.
— Merde, salaud, putain,[20] я должен найти эти джинсы, там в кармане блокнот с номерами телефонов.
— Небось в ванной оставил.
— Точно, я и забыл, — облегченно вздохнул Ксавье. Он сел на кровать и отогнул край одеяла. — Любимые ножки тоже — mon amour.
— Перестань, холодно, накрой.
— Вдохновения художнику пожалела? — Он легонько ущипнул меня за коленку. — Сегодня я целый день буду лепить твои ноги.
— Две мои, а третью какой-нибудь пассии: Бриджит, Жаклин, Зази.
— Ха-ха-ха, Шарлотта, тебя я бы не променял даже на трехногую пассию. — Он заботливо подоткнул мне одеяло. После чего на прощание поцеловал в лоб, укусил в нос и плюнул в рот.
Скрипнула дверь парадного: раз, другой. Михал, похоже, остался дома и уселся читать. Достану из-под ковра свою последнюю картину. Я нарисовала ее год назад, после того как мне попалась польская газета с дискуссией о том, каким должен быть новый герб — в короне, без короны или вообще в ушанке. У меня как раз был свободный холст и идея герба для поляков в стране и за границей: гибрид гусара и Матери-Польши. Раз порнографии не существует, покажу Михалу свой эскиз:
Мы отправились на прогулку. Михал, весь под впечатлением моего орла, вел меня в сторону Сите.
— Купим какого-нибудь попугая или австралийского воробья. Посмотришь птичий рынок. — Он тянул меня за руку. — Там каждый день продают птиц со всех уголков мира. На орла нам, наверное, не хватит, но можно поторговаться.
— Михал, ты с ума сошел, — пыталась я его удержать, — зачем тебе попугаи?
— Чтобы ты их рисовала, у тебя же талант, Шарлотта. Смотри-ка, нам повезло, семьдесят четвертый идет почти до самого Сите. — Михал втащил меня в автобус, где мы по третьему разу прокомпостировали старые талончики.
— Отличный орел, просто замечательный, тебе надо рисовать птиц, — говорил он, усаживая меня рядом со спящим негром в растаманском берете. — Никто меня не убедит, что с коммунизмом в Польше покончил Валенса, что это все его работа, а потом уж последовали ГДР, Гавел и весь развал. Коммунизм был уничтожен здесь, в Париже. — Михал ткнул пальцем в пол автобуса. — Падение коммунизма началось в тот день, когда появился деконструктивизм. Не могут в одно и то же время существовать идеология и ее отрицание, что-то должно взять верх. Деконструктивизм демонтировал коммунизм заодно со всеми прочими идеологиями. Понимаешь? — Он потянул меня за капюшон.
— Не очень.
— Но кто такой Деррида, ты ведь знаешь? — Михал не отпускал мой капюшон, готовый дернуть за него, словно учитель тупого ученика за ухо.
— Более или менее.
— Собственно, деконструктивизм уже не оставляет места ни для какой идеологии или содержательной теории. Однако моя теория имеет постдеконструктивистский характер. С одной стороны, она, как и деконструктивизм, отрицает возникновение какой бы то ни было новой теории, с другой — сама ею и является, то есть утверждается через отрицание себя самой.
Негр проснулся, доброжелательно взглянул на длинноволосого Михала и закурил косяк. Сидевшая напротив пожилая дама возмутилась:
— Будьте добры, погасите сигарету, мы не в метро.
— Да-да, — негр кивнул в знак того, что понял, — но это не сигарета, это joint,[21] угощайся, дружище. — Он подал обслюнявленный косяк Михалу.
— В другой раз. — Михал вернул косяк негру и потянул меня за капюшон к выходу. — О чем я говорил? Ах да, о теории, утверждающейся через отрицание, то есть о парадоксе. Парадокс — отрицание реальности. Это элемент надреальности, если он и появляется в реальности, то отрицает ее или провоцирует. Свою реальность может ощутить лишь реальность, атакованная парадоксом, тогда она из застоя существования трансформируется в агрессию бытия.
— Я не понимаю, но мне это не мешает, — призналась я, разглядывая клетки с мышами, белочками, лотки с морковкой и орхидеями.
— Да все ты понимаешь, Шарлотта, только по-своему. — Михал задумался, как бы попроще объяснить теорию парадокса. — У тебя никогда не было ощущения, что ты находишься в какой-то иной реальности?
— Такого как бы выхода из реальности? — Я не совсем понимала, что конкретно имеет в виду Михал. — Пожалуй, да — когда я занимаюсь любовью, в экстазе. Чудесное ощущение out.[22]
— Ты гений! — Михал на радостях пнул засраную клетку с соловьями. — Парадокс есть оргазм реальности.
Мы ходили между палатками, разглядывая птиц и прицениваясь. Михалу понравились три белых попугая с радужными хохолками, потом он решил, что лучше купить одного, но побольше, сизо-черного, с красными глазами и зелеными коготками. У самой Сены мы обнаружили старых вылинявших скворцов.
— Они разговаривают? — спросила я заглядевшегося на реку продавца.