Мануэла Гретковская - Мы здесь эмигранты
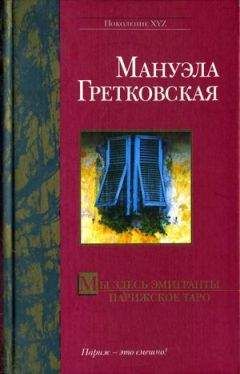
Обзор книги Мануэла Гретковская - Мы здесь эмигранты
Мануэла Гретковская
Мы здесь эмигранты
Моей жене
Осень 1988
Мабийон. Обеды для студентов. Самая вкусная станция метро. По эскалатору медленно вверх, потом – неспешное продвижение в очереди; на поднос ставятся салаты, закуски, изящный графин с водопроводной водой из Сены, десерты, и еще десерты, пока повар в исполинском белом колпаке не тыкает половником в мой подносик.
– Mademoiselle, qu'est-ce c'est?[1]
Понятно, что я взяла слишком много, но как выбрать между шоколадным десертом и банановым? Нет, не отдам.
– You are wrong, monsieur.[2]
– Porquoi?[3]
– I'm madame, no mademoiselle.[4] – Я машу у него перед носом обручальным кольцом.
Повар рассмеялся – и шлагбаум половника уже опускается на другой поднос. Берут за такой обед десять франков, а цена ему, видать, и того меньше. За окном развевается французский флаг – какой еще флаг станет развеваться за такие деньги? А я, между прочим, за десять франков должна не только ходить, но и думать. Думать хотя бы о том, почему я не стала несколько недель назад немецкой репатрианткой. Бумаги у меня в порядке, как у любого с левой стороны Вислы – какой-нибудь дедушка или дядюшка в Вермахте. За документ, подтверждающий немецкое происхождение, сходит даже свидетельство о прививке, выданное до 8 мая 1945 года. В Западном Берлине есть бюро с картотеками Вермахта, и после проверки аутентичности бумаг попадаешь в категорию репатрианта: пособие, жилище и все такое.
Размышляя над своими немецкими корнями, я вспоминаю одного дальнего родственника, у которого была фабрика в Лодзи, а еще у него был сын. После сентября тридцать девятого этот сын стал эсэсовцем. Они уехали – мягко говоря, на самом-то деле сбежали – в начале сорок пятого года. Другая часть семьи, не связанная с лодзинскими фабрикантами, уехала в шестьдесят восьмом. Стало быть, с таким же успехом я могу быть еврейкой. Младшее поколение, или я, уехало в восемьдесят восьмом. Это не был год преследования поляков. Это просто был очередной год в ПНР, и я пришла к выводу, что еще один год на родине мне не пережить. Только и всего.
Но мне неохота становиться немкой и объяснять всем, почему я так плохо говорю по-немецки, а плохо я говорю потому, что еще в детстве меня преследовали на улицах Торуни за речь отцов и дедов. Если во Франции жить не смогу, если будет тяжко, переберусь в ФРГ.
И я уже стара, чтобы учить иврит и становиться еврейкой. Кроме того, я верую в ложного мессию и – увы! – внешность унаследовала от арийских предков. Что в еврейки я не гожусь, говорил еще Анджей. Специалистом в этом вопросе он стал по чистой случайности. Анджей приехал в Австрию в начале ноября. Пролежал несколько ночей на газоне у какого-то лагеря, куда не пускали поляков. Другого такое ожидание, может, и утомило бы, но Анджею газон заменял больничную койку, поскольку он приехал больной, с температурой под сорок – осложнение после удаления зуба, – и ему было без разницы, обворуют его ночью арабы или вышвырнут поутру с газона полицейские. Через несколько дней этого альпийского «давоса» он выздоровел настолько, что вспомнил о такой организации, как Международная Амнистия, которая некогда внесла его в список своих подопечных. Еще через несколько дней он получил номер в отеле и мирно ждал билет в Канаду. В Вене он встретил шахтеров из Силезии, которые настолько отчаялись от безденежья, что решили записаться в израильскую армию, потому как слышали где-то о наборе. Анджей знал английский и был делегирован в израильское посольство для согласования условий приема, или – на военном жаргоне – вербовки новой силы. Силезцы терпеливо ждали у посольства, пока негодующий израильский дипломат объяснял Анджею, что израильская армия – национальная армия, а не Иностранный легион. Но если эти господа – евреи, то…
– Нет, к сожалению, не думаю. Они не похожи на евреев.
Однако дипломат все же посмотрел из-за занавески на незадачливых волонтеров и подтвердил слова Анджея.
– Действительно. Что ж, очень жаль…
Так вот, Анджей тоже пришел к выводу, что без солидных документов, по одной только внешности, еврейкой мне стать трудно.
Видно, некая высшая сила хотела, чтобы я не слишком засиживалась в Париже. Она возвестила об этом письменно и подбросила мне весточку в один прекрасный ноябрьский день. Я шла по бульвару вдоль Сены, восхищаясь самым настоящим собором Парижской Богоматери и открытками на лотках букинистов. Среди картинок было несколько книг. Я полистала какие-то истлевшие книги девятнадцатого века и даже наткнулась на дивное издание Нострадамуса. Открыла пророчества на фрагменте, гласящем: «…огромный город с башней из металла развалится пополам…» Все считают, что Нострадамус имел в виду Париж с Эйфелевой башней, но можно ли столь покорно принимать приговор пророчества и готовиться к худшему? Надо что-то делать или хотя бы подумать – подумать, что уже есть город с огромной телебашней на Александр-плац, город, развалившийся на Восточный и Западный Берлин. А стало быть, Париж спасен! Я уберегла Париж.
Успокоенная этим сенсационным открытием, я иду в метро, минуя блюзовый оркестр и девушку, играющую на флейте барочную музыку. Больше всего народу собралось вокруг негров, отбивающих зловещие ритмы на барабанах, ящиках и, кажется, даже на стенах метро.
– Как ты думаешь, зачем они так барабанят?
– Ну, ради денег, ради удовольствия.
– Нет, милая моя, только ради денег. Посмотри, кто их слушает, всего несколько человек белых, а остальные – негры. Потому что те, которые барабанят, барабанят, наверное, по коду и передают другим черным информацию, что сегодня, например, работу можно найти на Дюрок или что бананы дешевле всего на рынке Дюпле, а другие негры бросают им за это в шапку деньги. Сейчас будет моя станция, я выхожу, а ты идешь к посольству, да?
Ты-ты идешь на свидание с принцем, а я-ты к румынскому посольству посмотреть на манифестацию против Чаушеску. Знаю, что, как обычно, митингующих попросят переместиться от посольства на несколько улиц, что они тотчас и сделают. Фургон CRS[5] (в мае шестьдесят восьмого кричали CRS – SS) будет стоять для украшения, поскольку у полиции нет повода препятствовать группе пожилых людей, которые собрались покричать: «Чаушеску – убийца! Коммунисты – убийцы!»
У посольства было несколько поляков, среди них выделялся старший – почтенный господин, – державший польский флаг, украшенный надписями «Солидарность» и KPN.[6] Непонятно зачем он время от времени постукивал польским флагом о румынский, радостно выкрикивая: «Поляк с венгром – два братана!»[7] Рядом с поляками стояли синие кхмеры из Камбоджи, объяснявшие всем желающим, что они ничего общего не имеют с красными кхмерами, сторонниками Пол-Пота.
Когда митингующие стали скандировать: «Объединенная Европа без Москвы!» – русские женщины с транспарантом Российских Независимых Профсоюзов начали беспокойно оглядываться, не зная, то ли кричать то же, что и остальные, то ли сделать вид, что ничего не поняли.
Становилось темно и холодно, начался дождь. Я попробовала развеселить русских, крича им: «Freedom for Dracula!»[8] – но девушки были уже очень обижены. Они свернули транспарант и собрались идти домой. На их место пришла группа француженок с красивым флагом: белый крест на фоне анжуйских лилий. Под самый конец мероприятия явились монархисты, но они держались в стороне от толпы, и потому трудно было разобрать, то ли это сторонники династии Бурбонов, то ли приверженцы графа Парижского.[9]
Уходя от посольства, я взяла румынско-французскую газетку с прелестным рисунком:
Больше ничего не помню.
Зима 1988
…чала ничего. Разбитая ваза. Она стоит, а потом вся в крови. На лбу рана, почти дыра. Кровь льется и льется. Смотрю на автомобиль – и ничего, никак не можем на нем поехать в больницу. Говорю ей: «Ложись или сделай что-нибудь, чтобы голова была пониже, тогда, может, кровь вольется обратно в эту дырку во лбу, потому что мы не можем на машине ехать, сегодня воскресенье, с нечетными номерами запрещено…» Но ничего нельзя сделать, кровь льется, а она все бледнее. Мы идем пешком через пол-Бухареста в больницу. Рана подсыхает, покрывается корочкой. Пока дошли, образовался такой струп, потом рубец. Большой рубец на лбу в форме буквы «С», как Ceauçescu – Чаушеску, и этот рубец из-за него, из-за него, из-за него.
– Успокойся, Константин, спокойно, ну же, спокойно. – Мы пытаемся втиснуть ему в руку стакан вина. Но Константин продолжает размахивать фотографией своей бледной черноволосой жены и тыкать пальцем в рубец у нее на лбу. Мы рассматриваем рубец, киваем: действительно, отчетливо различима буква «С».
Мы сидим на полу. Румыны, болгары, чех, поляки, вокруг все больше окурков, мы пьем чай, вино, и нам вместе так хорошо, спокойно. Никому не хочется выходить из этой темной комнаты общежития для эмигрантов – даже в коридор, где можно встретить камбоджийца, прекрасного, как питекантроп, вновь и вновь переживающего бомбардировку и свистом имитирующего атакующий самолет. Другой человек, на которого можно наткнуться в коридоре – наверное, бывший узник какого-то южноамериканского режима, – выхаживает кругами, как во время прогулки на тюремном дворе.



