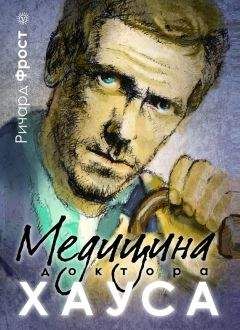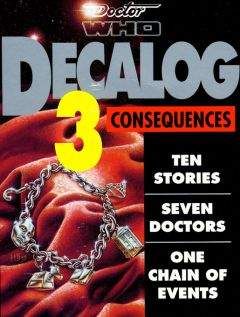Маре Кандре - Женщина и доктор Дрейф
(и все это время его квартирная хозяйка стояла, прижавшись ухом к двери, и с ужасом слушала его отчаянные выкрики),
и у него со временем вышел небольшой сонет,
богато расцвеченный такими словами, как «сера», «нарцисс» и «ангел».
Несколько дней спустя он положил сонет в конверт и отправился в парк, где барышня Агнес, конечно же, сидела на своем обычном месте под ивой возле лебединого пруда и читала.
Исполненный трепета, он приблизился к ней…
Когда он находился всего в нескольких шагах от скамьи, тень его упала на страницу ее книги, она подняла глаза и вопросительно улыбнулась, после
чего он молниеносно сунул ей в руки конверт и без единого слова убежал прочь…
То есть он пробежал круг и засел в ближайших кустах, откуда потихоньку наблюдал за тем, как она изумленно поднимает с колен конверт и рассматривает его.
Боже, какие мучения он в этот момент испытал!
Она бесконечно медленно открыла конверт
(и этим она словно прикасалась к самому юному Дрейфу,
к его телу,
к его рту,
к его…)…
И так же невыносимо медленно она вытянула и развернула листок розовой бумаги, а Дрейф все это видел из чащи густых кустов,
где в уши ему жужжали шмели и осы, а комары забирались глубоко в нос.
Его почти тошнило от возбуждения, пока он с бьющимся сердцем ожидал ее реакции:
заплачет ли она, засмеется, уронит ли слезу,
поднимет ли голову, посмотрит вокруг, назовет ли тревожно и нежно его имя,
пойдет ли она за ним, станет ли его искать,
поймет ли она тотчас же, что они созданы друг для друга,
предназначены вместе идти по жизни,
почувствует ли инстинктивно сквозь кусты его нежные, любовные взгляды?
Он задержал дыхание, и спустя несколько долгих как вечность минут послышался
громкий, похожий на ослиный крик, презрительный вульгарный хохот…
Хохот этот заметался эхом по неподвижному парку, отчего люди с интересом оборачивались, вспугнул лебедей, которые отплыли в дальний угол пруда, и съежился в любящем сердце Дрейфа до размеров маленькой волосатой бородавки!
Ему, совершенно уничтоженному, пришлось увидеть, как прелестная барышня Агнес, согнувшись вдвое, держась за живот, снова и снова деланным голосом читала его наболевшие, полные любви строфы самой себе вслух, так что их могли слышать все прохожие, а затем,
еще раз,
согнулась в пароксизме смеха.
Да, она хохотала так сильно, что задохнулась и вынуждена была лечь на скамью!
Немного погодя Дрейфу надоело, и он выполз из кустов и побыстрее убрался оттуда.
Внутри у него словно все застыло,
такого унижения он никогда,
ни до ни после,
не испытывал!
После этого случая Дрейф впал в глубокую, продолжавшуюся месяц депрессию.
Он забросил изучение насекомых,
он не хотел есть, по утрам лежал в кровати и не откликался, когда добродушная квартирная хозяйка стучала в его дверь, чтобы узнать, как дела.
А барышню Агнес он никогда больше не видел.
Да, на самом деле, он ее тщательно избегал!
Никогда более не ходил он в парк,
никогда более нога его не ступала на извилистые дорожки,
а как только ему попадалась на улице привлекательная молодая дама, его наполняли печаль, тоска, ненависть и множество других неопределенных чувств и в то же время хотелось заплакать, броситься к ее ногам и попросить над ним сжалиться
(хотя она, разумеется, была ему совершенно незнакома).
Никогда более он не пытался сблизиться с женщиной.
Никогда не был помолвлен,
а через короткое время после случая со стихами услышал он от одного дальнего знакомого, что барышня Агнес Хесиодос,
из-за любви к очень высокомерному, красивому юноше поэтического склада по имени Паскуаль Анимусс
(сам Дрейф понятия не имел, кто это был такой) покончила с собой, войдя в реку Помс, с карманами, набитыми камнями, землей и старыми книгами.
Ее тело было найдено какими-то игравшими там детьми много недель спустя.
Странно, что даже в смерти оно необычайно хорошо сохранилось…
Цветы, листья и увядшая трава налипли на ее лицо, глаза были открыты, а во рту лежала маленькая голубая рыбка, поедавшая ее язык.
Ах, да!
Доктор Дрейф глубоко вздохнул.
Именно после случая с Агнес,
после унижения, испытанного им вследствие ее презрительного ослиного смеха в парке,
он и сделал окончательный выбор, решивший всю его жизнь.
Он посвятит себя анализу, укрощению и подавлению женского духа!
К насекомым же он потерял всякий интерес,
на извилистые тропинки психоанализа его загнал злодейский смех покойной барышни Агнес,
прямо в темную чащу психики,
где ему впоследствии и суждено было провести всю свою жизнь.
Но все это, несмотря ни на что, совершенно не имело значения теперь,
добрых сорок лет спустя,
в этой пыльной, спертой комнатке со странно наклонными стенами.
Шел дождь.
Капли его стучали во все три зарешеченных окна, и на Скоптофильскую улицу опустилась почти ночная тишина,
в городе Триль.
Госпожа Накурс стояла в кухне над готовым обедом, не зная толком, что с этим обедом делать, так как визит, видимо, затянулся, а еще одна пациентка ожидала…
Дрейф подался вперед над журналом и увидел:
да, пациентка выглядела полностью оправившейся.
Она лежала, закрыв глаза, дышала спокойно, под подбородком у нее ровно билась пульсирующая жилка, а по обеим щекам даже разлилась легкая краска.
Он начал точно с того места, где они остановились:
— Да, барышня, это, должно быть, очень неприятное воспоминание,
я имею в виду костер,
но ведь все наконец закончилось, не так ли?
— Да…но…да, верно, это закончилось.
Она говорила не слишком убежденно, но Дрейф был достаточно профессионален, чтобы совершенно хладнокровно этого не заметить.
— И что же за всем этим последовало?
Он снова неохотно окунул перо в кроваво-красные чернила.
— Да, вначале меня словно вообще больше нет, а время идет,
мир и времена меняются,
домишки превращаются в дома, а затем в большие города с широкими улицами,
вокруг уже не какие-то болотистые деревеньки и навозные кучи, и плохо одетые дураки,
а вроде бы какой-то дворцовый покой!
Слово «покой» она произнесла с глубочайшим убеждением, словно читая вслух из какой-то книги, в которой оно было написано старинными буквами с завитушками.
— Покой?
— Покой!
— Просторный, тесный, заплесневелый, подземный, с крысами?
Так, так, нельзя ли немного точнее,
ведь существует множество видов покоев!
Лицо женщины снова приобрело слегка страдальческое выражение.
Словно она на какое-то мгновение потеряла связь и должна была подумать, к какому времени относится этот покой.
— Да, он не очень большой, доктор,
и, похоже, заброшенный,
но никаких крыс там нет,
и, вообще-то, он красивый:
такая напыщенная архитектура,
на стенах большие зеркала в золоченых рамах,
на потолке хрустальные люстры, от них по нему рассыпаются отсветы дневного света, проникающего через распахнутые двери террасы,
а пол там в шахматную клетку, доктор,
и большой очень красивый камин,
а в камине горит невысокое пламя,
мне кажется, что я вижу облачко мотыльков, вылетающих из языков пламени, но не обращайте на это внимания, доктор,
это, должно быть, галлюцинация!
— А что вы там делаете?
У этой постепенно прорастающей в женщине новой личности голос стал надменным, важным.
Она произносила каждый отдельный слог подчеркнуто правильно, вежливо и учтиво,
однако снисходительно
и называла Дрейфа уже не доктором, а господином.
— О, ничего, господин.
— Ничего, совершенно ничего?
Вы что, не дышите и даже не живете,
вы что, мертвая и лежите в открытом гробу, одетая в саван и погребальные перчатки,
так в чем же дело?
— О, господин, что вы говорите, разумеется, я живу,
но в основном я просто сижу здесь,
на стуле, совершенно неподвижно!
Дрейф записывал все это упрямо разбрызгивающимися красными чернилами, а на улице капли дождя падали все чаще, и госпожа Накурс все еще стояла в кухне, молча уставившись на дымящийся бифштекс, горошек и картофель.
— А за окном, я полагаю, лето, господин,
я вижу это по зелени сада,
по растениям в полном цвету и по жаре, дрожащей над туманными полями вдали,
я понимаю это также потому, что слышу грубый мужской смех среди деревьев,
и здесь внутри тоже жарко, господин,
дьявольски жарко!
Она повернула голову, вытянула шею, оттянула пальцами ворот платья, будто стараясь впустить побольше воздуха,
а Дрейф быстро вскинул глаза, прислушался,