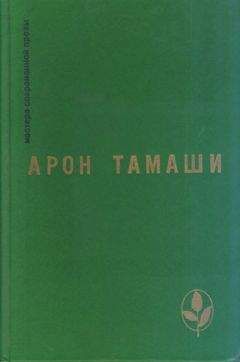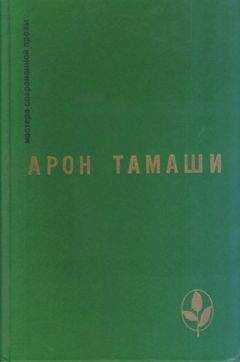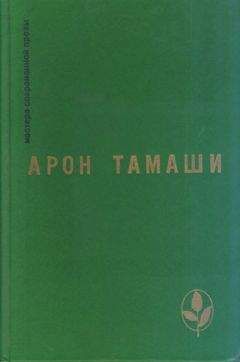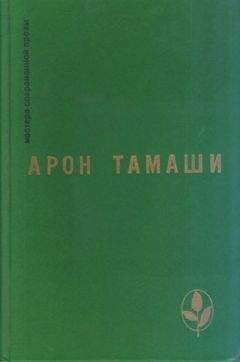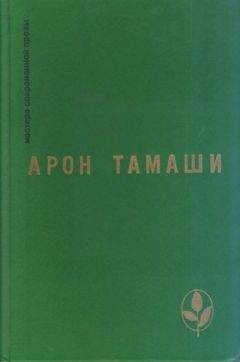Алексей Серов - Обеднённый уран. Рассказы и повесть
Я готов ко всему. Сомнений у меня больше нет. Руки мои спускаются все ниже по спине Тоньки. Женщина слабо мычит, раздвигает ноги в стороны.
— Да.
И вдруг мы слышим, как в доме кто-то пробует растянуть мехи баяна. Сначала неуверенно — руки у Сани, наверное, соскальзывали. А потом он резко берёт с места в карьер какую-то быструю, но невероятно печальную мелодию.
Мы с Тонькой смотрим друг на друга всего секунду — и бросаемся одеваться в предбанник. Потные, распаренные, беспорядочно натягиваем на себя одежду, которая никак не хочет налезать. Выбираемся в кромешную тьму деревенского осеннего вечера. Тонька бежит в одну сторону, я в другую.
Я подхожу к дверям комнаты. Баян неожиданно смолкает. Отдышавшись, осторожно заглядываю внутрь. На кровати сидит Саня, держится двумя руками за двустволку. Ружьё лежит на его коленях очень удобно, слегка перевешиваясь тяжёлыми стволами на одну сторону. Небритый Саня кажется сейчас старым, много повидавшим на своеём веку воином. Вот он устал, присел отдохнуть. И руки его словно бы привычны к оружию. Хотя, конечно, это не так. Он даже в армии не служил, даже и на охоту-то не ходил никогда. Деревенский гармонист. прошлый век, пропащая душа. Никому не нужен теперь со своей гармонью, с баяном своим. Саня-доходяга.
Неожиданно он поднимает на меня взгляд, и я, не задумываясь, прямо от порога прыгаю вперед, вцепляюсь в ружьё обеими руками.
— Отдай!
— А зачем тебе? — спрашивает он как-то неохотно.
— Кабана завалить.
— А, ну это. бери.
Он отдает ружьё и снова ложится на постель, лицом кверху, и снова становится неподвижен, как статуя. По-прежнему наедине со своей тяжёлой внутренней болью.
Выхожу в сени. Меня слегка трясет. Да что там слегка — начинает по-настоящему колотить крупной дрожью.
Почему я прыгнул и схватился за ружьё? Кому мог угрожать этот слабый человек — мне? Тоньке с сыном? Тётке Нюре?
Вот так бы вернулся сейчас и влепил этому гаду заряд во впалую, тощую грудь! Сволочь! Зачем ты вообще на свет родился? Только мешать.
Неожиданно для себя бегу в сарайку, включаю там свет. Хряк не спит, он стоит в углу спокойно и отрешенно, не смотрит на меня. Мне в этот момент заметно только, как мелко подрагивают его розовые щетинистые уши.
Я молча вскидываю ружье и стреляю.
На улице тут же заливаются осатанелым лаем все деревенские собаки.
Несколько долгих секунд кабан стоит, пошатываясь, словно пьяный. Потом его передние ноги подламываются, и, коротко хрюкнув, он валится набок. Я вхожу в загон и заранее подготовленным острым ножом остервенело перехватываю ему горло. Под моими руками что-то сочно и влажно хрустит. Меня тошнит, я выпрямляюсь и вытираю лоб окровавленной рукой.
Через минуту в сарайке уже собираются все, кто был в доме, подходят и некоторые из соседей. Меня даже узнают, здороваются, улыбаются. А я смотрю на людей дикими, непонимающими глазами. Мне отчего-то невыносимо стыдно. Стою, как водолаз на балу, не зная, что делать. Потом бросаю ружьё на землю и выбегаю во двор. Со двора — на дорогу. И вдоль по ней, в темноте, едва не наощупь, к железнодорожной станции.
Руки мои в крови, и не знаю, где омыть их.
Сюда я, конечно, не вернусь больше никогда, никогда.
Несколько лет из деревни доносились только плохие вести. Сначала помер Саня — пьяный замёрз возле ворот собственного дома. Так и нашли его сидящим на корточках у забора. Еле разогнули потом, чтобы в гроб положить.
Через год повесилась Тонька. Так, вроде бы ни с чего. Однажды осенним вечером. записку оставила: «Простите меня, родные мои!» И всё, и больше ничего.
На похороны я не ездил, был в командировке. Да если бы и знал — наверное, не поехал бы. Не захотел бы видеть её, такую.
Колька немного подрос и перебрался в пригород, к тётке Нюре. Она присматривала за ним какое-то время. Дом в деревне остался пустым.
Колька пару раз приходил ко мне. Он вообще любил ходить по родственникам, пить, есть, брать в долг немного денег без отдачи, говорить по душам. Это был маленький, тощий парнишка, постоянно пьяный и беспрерывно куривший. Больше всего он напоминал сорванца-беспризорника первых послереволюционных лет. Нигде не учился, не работал. Дурачок, и жалко его, конечно. строил всё из себя взрослого. Мы даже любили его за это — вот он, наш юродивый, опять пришёл, сейчас выпьет рюмочку, заплачет о чём-то далеком, скажет: мы же родные люди. что ж у нас так всё. И вроде есть в его словах какая-то скулящая правда, о которой мы уж давно подзабыли. о чём сами иногда ночью плачем в подушку. Его тут можно и ругнуть, и шугануть — он нисколько не обидится, совершенно безвредный ведь. Скажет только примирительно: ухожу, ухожу, не сердись. дай червончик, принесу потом как-нибудь.
— Дядя Коля, — в сердцах говорил он мне, щурясь от сигаретного дыма, — ведь у меня ближе тебя и родни-то нет, — и лез слюняво целоваться.
— Ну, прямо уж и нет. Родни полно! — говорил я, мягко отстраняя его назад на табуретку и вытирая щёки рукавами.
— Дак ты мне почти как папка. А помнишь, ты к нам в деревню тогда приезжал, кабана ещё застрелил?
— Помню.
— И я помню! Вот это вы с Саней, батькой-то моим, крепко выпили! Вся деревня со смеху усиралась. Хорошо — кабана застрелили, а не бабку Нюру!
— Ещё чего придумал.
Вот, значит, как объяснила деревенская молва это ужасно нелепое происшествие.
— А мне ведь скоро в армию, дядя Коля.
— Да где же скоро, ещё пару лет ждать.
— Я очень в армию хочу. Прямо сейчас бы пошел. Там настоящим мужиком стану. У нас в деревне девки не любят, кто в армии не служил. За такого и замуж никто не пойдёт, разве уж только с пузом. У нас девки, знаете, какие строгие! Не то, что городские шалавы. Я жениться на одной нашей девке хочу, её Оля зовут. Хорошая.
— Молодец.
Его не взяли по состоянию здоровья. Суровые армейские врачи были на этот раз единодушны в своём мнении: если не хотим этого шибздика через месяц отправлять домой в цинке, то призывать его не надо. И не призвали.
Колька горевал недолго. Нашёл какую-то бабу лет на двадцать старше себя, такую же пропитую и конченную, поселился у неё в доме. Собирался даже официально жениться, просил у родни денег на свадьбу. Никто ему, конечно, ничего не дал, и правильно.
Они собирали пивные бутылки, алюминиевые банки, цветной лом. Сколько-то лет так жили.
Потом однажды эта баба возникла на моем пороге.
— Дайте денег на похороны. Коляныч помер, дурачок.
Это была самая обычная история в те годы. Колька купил неизвестно что, налитое в водочную бутылку, и выпил это неизвестно что один. Бабы его два дня не было дома, а когда она пришла, то обнаружила Кольку холодным, скорчившимся возле дивана в луже кровавой блевотины.
Увезли Кольку в деревню и похоронили там, рядом с его батькой Саней. И с Тонькой.
И все родные успокоились и сказали: слава Богу, отмучился. Теперь на своём месте.
Я иногда езжу к ним. Что-то тянет. Постою возле заросших травой могил, которые постепенно исчезают, сравниваются с землёй, ничего там не трогаю, потом иду в дом. Посижу полчаса, подожду, не вспомнится ли чего хорошего. Но дом без людей, кажется, тоже давно умер. И воспоминания его покинули. Наверное, надо продавать.
Потом я иду к той рыжей, с косой. Её, кстати, тоже зовут Тонька. Одинокая женщина. Муж утонул по пьянке в озере — купался, попал в холодный ключ, сердце сразу и остановилось. Помню, когда-то она задорно пела мне: «Америкен бой, уеду с тобой!» Теперь я сам зову её уехать в город. Но она уже не хочет.
И ничего ты тут не поделаешь.
Соседи по жизни
Стало уже привычным сравнение человеческой жизни с поездом. И действительно, схожего здесь много. Вроде бы едешь в нём, поезде, едешь, смотришь в окно на красивые и печальные пейзажи, на удивительные восходы и страшные закаты, на своих соседей по этому длинному путешествию. Лениво разговариваешь с ними о всякой всячине. Когда сел в поезд — не помнишь, когда сойдешь — без понятия. И цели-то особой вроде нет, лишь бы путешествие было приятным и необременительным. Иногда пересаживаешься из вагона в вагон, меняешь линии, направления. Тут важно не стоять на месте, а бесконечно лететь куда-то без остановок… И соседи твои со временем меняются — уходят, пересаживаются, исчезают навсегда.
Однако некоторые из них держатся возле тебя долго, как привязанные. Вам словно в одну сторону, и место назначения общее. Совершенно случайные люди, то и дело мелькающие у тебя перед глазами. Зачем они здесь? Кто они тебе и кто ты для них? Или уйдёт вот такой человек на некоторое время… думаешь: ну всё, с концами — а он, глядь, вернулся, занял своё место поблизости. И сидит улыбается тебе загадочно. Как будто чего-то знает…
А вон тот, вон тот, смотри! помню, ехал рядом со мной, а теперь весело машет рукой из окна встречного поезда. Ну что ж, помашу ему в ответ. Счастливо!