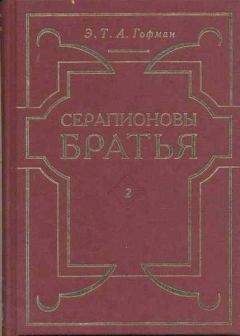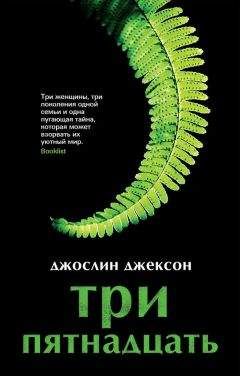Шандор Тот - Как дела, молодой человек?
- Ищите бога,- вещал старик,- и он спасет ваши души.- Ничему, мол, не надо, удивляться, ибо всякое творение - чудо и бог везде: в струе водопада, в небесах, в атоме и в скромной полевой маргаритке. Ищите и обрящете. Аминь.
Здорово он закруглился, пропев «аминь».
В церкви сидели почти одни старухи. После проповеди загудел орган, и над алтарем вспыхнул электрический венец. Лацо перекрестился и шлепнулся на колени. Потом мы уселись на скамью. Священник долго возился с золотой чашей, словно не знал, куда ее деть, наконец, поднялся по лесенке и водрузил на алтарь. Он что-то сказал на латыни, и кантор ответил ему тягучим напевом.
Затем началась молитва. Склонив голову, священник перечислял спасителя, святую троицу, святого духа, а старухи жалостливо ныли: господи, помилуй!
Они, наверно, страшно боятся бога, оттого и ноют. Потом славили богородицу: распрекрасная мати наша, и мудрейшая, и брака священный ковчег, и всевластная, и срама не имущая! Какого еще срама?
Лацо тоже скулил, как будто исполнял сольный номер под названием «Молитва выпускника». Старухи бормотали с понурым видом, а он лицедействовал и старался мне показать, как отлично разбирается во всех этих штуках.
Высоко, под сводом, был нарисован гигантский глаз - величиной с мою голову. В каком месте ни станешь, глаз настигает тебя всюду.
Наконец мне надоело нытье старух, и я вышел на улицу. Там уже зажглись фонари.
Я остановился под фонарем. Рядом в траве белели маргаритки. Я сорвал одну и стал вертеть. И чего-то ждал: может быть, того, что она заговорит или вдруг преобразится - мне часто приходят в голову совершенно нелепые мысли.
Но тут я услышал шаги и бросил цветок. Подошел Лацо.
- Боишься бога, да? - спросил я.
- Не боюсь,- ответил он неуверенно.
- А зачем же скулишь? Господи, помилуй, господи, помилуй!..
- Святыми вещами не шутят.
- Вы-то скулите, а бог вам ни звука. Что за глаз там наверху?
- Это знак божий.
- Понимаю, что знак. Но ничего ж не случается.
- А что должно случиться?
Мне-то откуда знать? Я промолчал.
- Когда мы умрем, тогда и случится,- сказал он тихо и отвел глаза.
- Откуда ты знаешь?
- Знать это нельзя. Надо верить.
- Ага.
- Отец запретил,- сказал он, кусая губы,- спорить об этих вещах.
- А кто спорит? Всему этому грош цена.
- Чему?
- Всем этим фокусам.
Ему, видно, хотелось поспорить, но он не решался нарушить запрет отца.
- Ну, я пошел,- сказал Лацо.- Ты математику сделал?
- Нет. Примеры трудные?
- Да вот общее кратное...
Он стал объяснять, но я не мог слушать. Я думал о том, что будет дома.
■
Я хотел проскочить через проходную комнату, но там стоял папа - один рукав рубашки у него был закатан, другой расстегнут и болтался. Он говорил по телефону, перекладывал трубку из руки в руку, страшно гримасничал, вертел карандаш и сердито инструктировал Кёрнеи, который, должно быть, никак не мог взять в толк, что какие-то строительные документы пропали, а наряды свистнули. Настоящие гангстеры, кричал папа, дело адски запутанное - на такую подлость способен лишь тот, кому сам черт не брат.
А кому же он брат?.. Опять туман, сплошной туман. И спросить нельзя. Папа смотрит на меня, как сквозь стекло, налитыми кровью глазами, ерошит волосы и едва держится на ногах.
Я прошел к себе в комнату — «занятий с детьми» сегодня, конечно, не будет. Хотел сразу же разделаться с математикой, но мысли уплывали совсем в другом направлении. Старик трусит... Это слепому видно.
На столе был географический атлас, я открыл его, и из него выскользнула открытка с обнаженной женщиной. Сейчас ее порву. Как только взгляну на нее, вспоминается Фараон. Он ведь знает, что она у меня, так что можно и сохранить, но не стоит.
Я собрался было ее разорвать, но в этот миг — то ли ресницы у меня шевельнулись, то ли открытка качнулась — левая грудь стоявшей на коленях девушки дрогнула, будто она вздохнула, потом она подняла полуприкрытое копной волос лицо и засмеялась.
Что за чушь! Я даже обозлился: зарябило в глазах, вот и мерещится всякое, чего нет и быть не может.
В этот момент дверь внезапно открылась и вошел папа, совершенно взъерошенный. Я вмиг затолкал открытку в атлас, правда, чуть поспешней, чем следовало, но он, к счастью, ничего не заметил.
— Как дела, молодой человек? — спросил папа рассеянно.
— Как сажа бела, — сказал я со смешком, а он, тяжело опустившись на стул, облокотился на письменный стол.
— Где мама?
— Не знаю, — сказал я, кривя рот.
Папа вытащил смятую сигарету и тоже скривил рот, но он, ей-богу, даже не подозревал, что гримасничает. Просто мы оба вдруг сделались нервными.
— А ты где был?
— На летенье.
— Где?
— На литании. Это на диалекте — летенье, — я смотрел на него снизу вверх: ну, что, опять дрессировка? — Кати тоже нет дома!
— Кати спросила, можно ли ей уйти. А вот ты пропадаешь неизвестно где.
Он помолчал, возясь со своей завалящей сигаретой.
— Ты был на литании? Что ты там делал? — спросил он наконец с удивлением.
— Слушал орган и давился от смеха.
— Ты ходишь на литанию давиться от смеха?
— Да нет. Просто Лацо там причитал, как баба... Господи, поми-илу-уй. — И я захохотал, правда, не очень искренне, но папа не стал смеяться. Тогда и я заткнулся.
Тут он снова скривил губы и спросил ободряющим тоном:
— Раз ты туда пошел, значит, тебя что-то интересовало, не правда ли? Ты так редко о чем-либо спрашиваешь.
— Видали мы таких циркачей.
— Что?
— Меня не интересует церковь.
Он недовольно тряхнул головой, потом с непередаваемым отвращением окинул взглядом мой стол.
— Что ж, займемся математикой?
— Геометрией, — уточнил я и открыл тетрадь. Но он встал, подошел к окну, потом вернулся. Ему было сейчас не до геометрии. Попробуем тогда другое, подумал я, а там будь что будет. — Папа, почему ты сказал, что тем сам черт не брат?
Он остановился как вкопанный и так пристально посмотрел на меня, будто видел впервые.
— Это такое выражение. Оно означает...
— Я знаю, что оно означает.
— Если тебе интересно... как-нибудь расскажу... Хотя для тебя это несколько сложно. Но так и быть расскажу. Договорились?
Я поднял плечи — ладно, и это неплохо.
Мы склонились над тетрадью, и он сразу увидел обведенный кружком пример. Мне страшно не хотелось решать, но я сейчас же взялся за дело и постарался сосредоточиться. А он отошел от стола и прислонился головой к окну.
— Готово! — сказал я.
Папа, не отходя от окна, устремил на меня вопрошающий взгляд.
— Объем шара 1533,5 кубических метра.
— Неверно, — сказал он. — 1650,5.
— Откуда ты знаешь? — удивился я.
— Откуда, откуда... Вычислил, — сказал он небрежно.
Я пересчитал — он был прав. Считает он просто удивительно. В юности он занял первое место на всевенгерской математической олимпиаде, но никогда об этом не рассказывает, будто стесняется. Он говорит, что война уничтожила все его честолюбие. По-моему, это ужасно. Зачем он поддался? Ведь он остался в живых! — неожиданно мелькнула у меня мысль.
— Верно. 1650,5, — сказал я. — Ты в уме сосчитал?
— Да, в уме. Хочешь знать как? Есть такой способ, — сказал он, оживившись, и рассеянно взял со стола атлас. Кровь у меня застыла. Вот сейчас, сию минуту начнется скандал! Он держит атлас в руках... Может, пронесет, может, не раскроет... Все кончено. Он не раскрыл, но держал так некрепко, что коленки женщины высунулись. Открытка в руках у родителя... Караул! Сбегу! Не признаюсь ни за что! Он молчал, сердитый, растерянный, но мускулы на его лице странно дрогнули, как будто он сдерживал смех — так, во всяком случае, мне показалось.
— Что это?
Я инстинктивно встал; сейчас съездит по физиономии, пронеслось у меня в голове. Черт возьми, а мне-то как себя вести? Я ведь давно не получал затрещин.
— Что это?! — спросил он громче. Ну, знаете, мне это надоело. Будто он сам не видит. Все-таки я ответил, а то ведь опять скажет, что я дикарь.
— Ню.
— Вот как, ню. Просто ню. И все?
Я поднял одно плечо.
— Где ты взял это? — спросил он неожиданно спокойно.
— Купил.
— У кого?
— У одного парня.
— Ну и как... нравится?
Вопросик — лучше не надо.
— В основном, — идиотски ухмыльнувшись, ответил я.
— Что ж тебе здесь больше всего нравится? — спросил он небрежно.
Ну, я показал, что мне больше всего нравится.
— Юродствуешь? — спросил он мрачнея.
— Классный руководитель сказал, что женское тело лепили и рисовали тысячи раз. Потому что оно прекрасно.
— А классный руководитель случайно не советовал...
— Нет, что ты!.. Их было несколько. Я разорвал. Такая же халтура. Ничего общего с искусством. — Неожиданно взяв у него открытку, я разорвал ее в клочья, швырнул в печку и отряхнул ладони.
Он снова опустился на стул, закурил, уставился на паркет, и на лбу у него заблестели капельки пота. Я тоже сел и стал чертить в тетради поля.