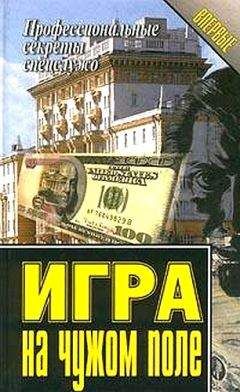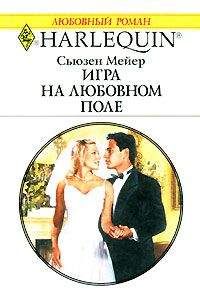Говард Немеров - Игра на своем поле
– Как верно, о Шерлок Холмс! – И он опять зашагал из угла в угол.
Итак, все эти люди – прекраснодушные и низкие, умники и простофили, – все они старательно недоговаривали. Ему предоставили сделать вывод, что решение вопроса целиком зависит от него. Барбер и Да-Сильва, несомненно, все знали: у них ведь накануне было специальное собрание по этому поводу. Ректор Нейджел тоже должен был знать. Лили Сэйр? Не обязательно. Ему хотелось думать, что нет. Но, конечно, и она могла знать. Что касается тренера, тот просто не сомневался, что Чарльзу все известно, да и для остальных это в случае надобности могло послужить достаточно убедительным оправданием. Незачет Блента по философии, точно так же, как и по истории, был занесен в ведомость, ведомость вывешена, и Чарльз мог знать о нем, а мог и не знать. Ему просто в голову не пришло… А те, другие, по-видимому, на это и рассчитывали и отнюдь не собирались вывести его из заблуждения. Доказательством тому слова Харди: «А вы не знали? Вам никто не говорил?»
Эта новость коренным образом меняла дело, и усвоить, переварить ее за какие-то несколько минут Чарльзу было так же трудно, как перенестись из вселенной Птоломея во вселенную Коперника. Ибо вместо четкой схемы, в которой ему было отведено твердое место в центре событий, вдруг возникла другая, гораздо более запутанная и зыбкая схема со множеством противоречивых и неясных взаимодействий.
Ну, а этот другой, Солмон – к нему они применили ту же тактику? Дали ему понять, что ответственность лежит на нем, а значит, решение тоже остается за ним?
И он – это следует из слов тренера – не уступил, либо из упрямства и неприязни к спортсменам («этот хлюпик Солмон»), либо из более глубоких соображений («этот «красный» паршивец с философского отделения»).
А может быть, – что гораздо хуже и более вероятно – принцип «разделяй и властвуй» был применен иначе? Может, кто-то один или все решили обработать Чарльза первым, как более покладистого, а потом использовать его согласие как рычаг, которым можно сдвинуть с места Солмона? Если так, то со времени свидания Чарльза с ректором мощь оружия, пущенного в ход против Солмона, возросла во сто крат: «Полно, Солмон! Посмотрите: ваш коллега поступил по-человечески! Пойдите же и вы нам навстречу». «Слушайте, Солмон: какой смысл вам одному идти всем наперекор?..» «Почему не проявить благоразумие, мистер Солмон?
Бот же Чарльз Осмэн не стал упрямиться!»
Какой ужас – ведь он предал своего коллегу, пусть неумышленно, но предал. Учитывая все факты, мало назвать его поведение нетоварищеским: он самый настоящий и законченный штрейкбрехер. И надо же, чтобы это был именно Солмон! Почти не зная мистера Солмона, Чарльз тем не менее недолюбливал его и поэтому считал своим долгом проявлять по отношению к нему сугубую щепетильность. С этим были связаны вопросы этического порядка, которых Чарльзу сейчас очень не хотелось касаться.
А между тем это было необходимо, потому что за полчаса, которые оставались до прихода Блента, Чарльзу предстояло заново продумать свое решение, так как дело оборачивалось куда серьезнее, чем ему представлялось до сих пор.
Эти двое, Чарльз Осмэн и Леон Солмон, были во многом людьми совершенно противоположными, а значит, имели и много общего. На первый взгляд казалось, что их разделяет бездонная пропасть, но, присмотревшись повнимательней, можно было заметить, что каждый представляет собой искаженное отражение другого, причем для обоих это сравнение было в равной степени нелестно. Они были и похожи и непохожи.
Оба были примерно одного возраста, но только Солмон был неудачник, перекати-поле, один из тех преподавателей, которые по разным причинам кочуют из одного колледжа в другой и нигде не могут занять прочное положение. И вот ему давно за тридцать, у него жена и дети – двое, если не трое, а он по-прежнему рядовой преподаватель, несмотря на свой солидный опыт, эрудицию и общепризнанный талант. А Чарльз уже два года как адъюнкт-профессор и со временем легко и незаметно станет профессором, а лет через десять, если по-прежнему будет здесь, возможно, заменит Лестрейнджа на посту декана исторического отделения.
Преуспевающий – и это о нем? Чарльз невольно улыбнулся, хотя ему было совсем невесело: воистину в педагогическом мире масштабы триумфов куда как скромны. Но он-то все-таки может позволить себе улыбаться иронически, а вот Солмону остается разве что горькая усмешка. Ведь и в педагогическом мире, как в любом другом, неудачника сторонятся, как прокаженного. Не оттого ли и Чарльз никогда не искал случая познакомиться с Леоном Солмоном?
Строго говоря, у него не было оснований упрекать себя. Колледж не особенно велик, но все же народу здесь так много, что каждого знать не обязательно. Тем более что Солмон даже на другом отделении, хотя и объединенном с историей под туманным названием «общественные науки». В будничной учебной обстановке у них было слишком мало точек соприкосновения.
Но Солмон был еврей. Чарльз поморщился: даже про себя это «но» звучит неприятно. Солмон принадлежал к тем блистательно одаренным юношам из бедных семей, которые в колледже (в данном случае это был Нью-йоркский городской колледж) делают феноменальные успехи и могли бы удивить мир, если бы имели возможность составить чуть более лестное мнение об этом мире и узнать его не только по книгам.
«Солмон не верил в то, во что верят другие, но не это главное, – думал Чарльз. – Главное – он не притворялся, что верит, а другие притворялись». Вот и Чарльз покоя ради тоже делал вид, будто верит – точнее сказать, с легкой душой позволял себе принимать как аксиому, – что серьезных конфликтов и противоречий не существует, во всяком случае – между джентльменами. Даже если одни из них христиане, а другие – иудеи.
Мало того, не исключено, что Леон Солмон в прошлом был коммунист, хотя что он был за коммунист и коммунист ли он теперь (Чарльз полагал, что нет), оставалось неясным. Чарльзу припомнились его собственные студенческие годы. Да, вполне возможно, что человек такого склада, как Солмон, по натуре Терсит или Апемант (Желчные циники, герои драм Шекспира «Троил и Крессида» и «Тимон Афинский») (быть может, стремившийся стать Сократом), которого в те годы, когда в Испании шла гражданская война, считали бунтарем, – вполне возможно, он и был членом коммунистической партии или хотя бы комсомола. Отчасти эти соображения подтвердились в ходе одного из пресловутых расследований – беспардонных и братоубийственных, – которое колледж предпринял год назад с целью отвратить другое расследование, более гласное и угрожавшее колледжу по той лишь причине, что сенатор Стэмп, не слишком значительный и видный деятель одной вашингтонской комиссии, был выпускником и членом попечительского совета колледжа. Была создана комиссия из преподавателей (Чарльз был рад-радехонек, что обошлись без него), которой вменялось в обязанность вызвать на допрос преподавателей и, основываясь на ответах (если таковые последуют), навести порядок без вмешательства извне. Практическая цель этой затеи была пристойно завуалирована, ни до какой присяги в лояльности дело не доходило и, насколько Чарльзу было известно, о взысканиях и последствиях ни слова не говорилось – как и о том, впрочем, является ли подобное расследование законным. Все прошло бы тихо и гладко, если бы не внезапное осложнение с Леоном Солмоном, который отказался отвечать комиссии, заявив, что она не имеет права устраивать ему допрос, а если ректор Нейджел хочет заставить его отвечать – пусть только попробует. По слухам Чарльз знал, что в своем выступлении Солмон недвусмысленно пригрозил обратиться в суд и предать этот инцидент широкой гласности, добиться, чтобы дело было расследовано Всеобщей ассоциацией преподавателей высшей школы, а если нужно – то и Союзом гражданских свобод. Вопрос повис в воздухе. «А разрешится он, – подумал Чарльз, – скорее всего так: по окончании текущего учебного года мистеру Солмону предложат тихо и мирно отправиться на все четыре стороны, воспользовавшись тем, что рядовому преподавателю срок работы договором не гарантирован. Разумеется, если он согласится уйти тихо и мирно, что мало вероятно. Впрочем, – заключил Чарльз, – это не моя забота».
Вопрос же, который заботил сейчас Чарльза, имел, пожалуй, чисто символическое значение, так как решение его практически не затрагивало существенных, не тривиальных (как футбол) сторон жизни. Зато для оценки собственной личности вопрос этот имел крайне важное значение. Он сводился к следующему: не стал ли Чарльз невольным (да и таким ли уж невольным?) сообщником темных сил, угрожающих человеку, которого он меньше всего хотел обидеть именно потому, что его так легко обидеть?
Как бы то ни было, нужно действовать. Но кому и каким образом? Не слишком ли далеко зашел он сам, чтобы сейчас пойти на попятный? Это был тоже момент довольно тонкий, потому что ему-то, собственно, в любом случае наплевать – не совсем, правда. Он все-таки понимал, что так нельзя, что если задеты твои принципы, а тебе наплевать, одно это само по себе уже в высшей степени тревожный признак. А между тем он сейчас приближался к тому состоянию, когда, по меткому выражению жены многострадального Иова, остается лишь «похулить бога и умереть». Говоря мирским языком, дельный совет этой библейской дамы сводился к тому, чтобы в те минуты, когда заходишь в тупик и становится невмоготу, махнуть на все рукой (пусть не без угрызений совести) и сказать себе: «Э, какая разница? Такова жизнь». Это горькое утешение доступно даже самым высоконравственным – может быть, им-то в первую очередь.