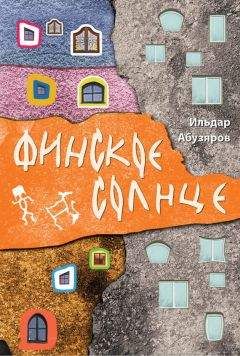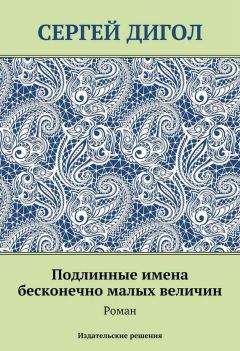Игорь Малышев - Подменыши
— Мне тоже нравится, но нельзя же зимовать в лесу.
— Ты правда так думаешь после всего, что здесь видела?
Она замолчала. Опять нахлынул ворох смутных воспоминаний из детства, которых она внутренне очень боялась. По спине словно бы поползла холодная капля, отчего вся кожа покрылась мелкими пупырышками и замерзли щеки. Всё её существо, словно вдруг поделилось пополам. Одна часть больше всего хотела вернуться в город, а другая, ни в какую не хотела уходить. Что-то могучее ворочалось в глубине подсознания, распирая череп и не отпуская из леса. Она охватила руками виски. Хотелось скулить от жалости к себе.
— Ты в самом деле хочешь уехать после того, что повидала здесь? — повторил свой вопрос Сатир.
Ей захотелось заверещать, как маленькая девочка: «Я не знаю, не знаю! Оставь меня! Что бы я ни сделала, я знаю, что потом все равно буду жалеть об этом!». Но она не издала ни звука, только плотнее сжала голову ладонями, собралась с духом и почти твердым голосом произнесла:
— Что бы я ни сделала, я все равно буду жалеть об этом.
И снова погрузилась в задумчивость, разглядывая дикий хаос внутри себя. Чувства бились друг о друга, как несущиеся навстречу поезда. Слышался грохот ломающихся стенок, скрежет железа, визг колес, отрывающихся от рельсов, разлетались фонтанами осколки стекол, кто-то исступленно кричал, задавленный. «Неужели он всерьез думает, что человек может жить в лесу? Переживать зимы, охотиться и никогда не подходить к городам?». Все ее воспитание, весь жизненный опыт говорили ей, что это чушь и околесица. Но другая, скрытая часть твердила, что это правда, так можно жить и Сатир наверняка знает и умеет это. Так и боролись в ней ясное понимание и смутные, глубинные воспоминания, непонятные, пугающие и в то же время такие сладкие и зовущие. В какой-то момент она была готова забыть о возвращении, но вдруг на нее снизошла некая отстраненность и наступило ледяное спокойствие. Разом отпустила боль и воцарилась тишина, оставив опустошенность внутри.
— Все, я решила.
Сатир молчал, напряженно и внимательно глядя на нее.
— Я ухожу.
Она посмотрела на него и увидела, как на его лице появилось то жалкое выражение, какое бывает у детей, когда им пообещали купить собаку, а потом просто купили конфет. Сатир мгновенно отвернулся, но она успела увидеть его лицо, и ей стало не по себе. «Этого не может быть, это паранойя. Не бывает ни живых пней, ни серебрящихся людей. У меня были галлюцинации. Я просто обкурилась», — твердила она про себя, но это слабо помогало, внутри у нее все ныло от тоски и жалости к себе и Сатиру.
Что-то шевелилось в памяти, словно приговоренные к утоплению щенки в мешке.
Некоторые люди говорят, что помнят себя едва ли не с материнской утробы. Таких мало, но тем не менее… У большинства первые воспоминания относятся к двух-трехлетнему возрасту. Белка совершенно не помнила себя до пяти лет, потом же воспоминания шли непрерывной чередой, словно с этого момента вся ее жизнь была отснята на пленку. Она сама удивлялась такой странной особенности своей памяти: абсолютная темнота до пяти лет и полная ясность потом.
Первое, что она помнит из детства — мокрые щеки матери, ее сильные, до боли объятия, бледное, изможденное лицо отца с подергивающимся правым глазом, заполненным непрошеной влагой, ветки сосен, нависающие на фоне голубого летнего неба, хвоинки, запутавшиеся в волосах, пересвист птиц и густой запах земляники, доносящийся от поляны неподалеку, густо поросшей высокой травой.
Она потерялась пятеро суток назад, и, хотя дело было летом, — кругом ягоды, щавель — за ее жизнь все же сильно опасались. В лесах водились медведи, кабаны, иногда забредали с дальних чащоб волки. Лесники с егерями почти не спали, обходя лес вдоль и поперек. Далеко от того места, где она потерялась, старались не отходить, зная, что девочка не могла далеко уйти. Когда же все-таки решили перенести поиски в более отдаленные участки, Серафима нашлась под корнями ели, вывороченной ураганом года три назад. Она спокойно спала, будто совсем и не переживала что потерялась. Ее щеки и нос были перемазаны грязью, замешанной на земляничном соке, а в остальном выглядела она просто замечательно. Поисковики не знали, что и думать — они проходили в этих местах десяток раз, и собаки ни разу не взяли след ребенка, хотя им постоянно давали понюхать её платьице и сандалии, специально привезенные из города. Но самое удивительное то, что даже и тогда, когда на Белку случайно наткнулся Азат — самый бестолковый, по общему мнению, егерь, собаки никак не отреагировали на нее, словно нашли совсем не того, кого искали, или все разом потеряли нюх. Больше того, псы нехорошо косились и порыкивали, то ли угрожая ей, то ли предупреждая хозяев о чем-то. Бывалые лесники, не задерживаясь в спешке ушли, едва счастливые родители отдали им все деньги, что были у них с собой. Уходя, они недоверчиво и отчасти враждебно поглядывали на найденыша, о чем-то сдержанно и нехотя перешептывались. Родители этой неожиданной неприязни не заметили, не видя ничего, кроме своей дочери, протирающей ото сна глаза и, казалось, не вполне понимающей, что происходит.
До своего исчезновения Серафима была тихим и боязливым ребенком. Легко смущалась и редко отходила от родителей. Просто удивительно, как она смогла оторваться от них в лесу и заблудиться. Она боялась темноты и часто спала с головой укрывшись одеялом, вылезая наружу только после рассвета. До ужаса застенчивая, бывало, дав в детском саду или песочнице возле дома свою игрушку поиграть, она не смела попросить ее обратно и потом, чуть не плача, говорила родителям, что потеряла ее.
После пропажи, по всеобщему мнению, ее словно подменили. Она стала неожиданно боевой и непоседливой. Каждую неделю убегала домой из детского сада, объясняя потом, что ей стало очень скучно, и она захотела поиграть дома со своей кошкой. И это при том, что среди детворы в своей группе она стала первой заводилой и организатором развлечений, выкидывая подчас диковатые штучки. Научила всех играть в ручной мяч, есть лопухи и «пышки» — маленькие семена, растущие на одной травке, объяснила, как хватать крапиву, чтобы она не сильно жглась, раздобыла семена чертополоха и весной засеяла им детскую площадку, прикормила бесчисленное количество кошек, отчего они стаями ходили за ней во время прогулок и в марте невыносимо противно орали под окнами. Кроме того, она сумела тайком заболеть лишаем и самостоятельно вылечиться чистотелом. Об этом никто бы и не узнал, не начни она усердно лечить своего приятеля, тоже подхватившего эту заразу. Как-то раз, воспользовавшись моментом, когда воспитательница пошла курить, она увела всю группу в кино смотреть детскую комедию. Подговорила своего пятнадцатилетнего троюродного брата, чтобы он представился их воспитателем и провел в кинотеатр (группы детсадовцев на дневные сеансы пускали бесплатно). Там их и накрыли через час насмерть перепуганные настоящие воспитатели. Брат, правда, сумел скрыться. Дети не выдали Белку, но все и так поняли, чьих рук это дело. Пришлось менять детский сад. А вскоре началось ее увлечение всем, что может стрелять и взрываться. Она в совершенстве овладела всеми видами детского оружия — от трубочек, стреляющих жеваной бумагой, до рогаток с шариками от подшипников. Отсюда пошло прозвище Самострел. Ее успехи в пиротехнике не давали покоя ни учителям в школе, ни соседям по двору. Фейерверки, что она устраивала на Новый год, вспоминали потом до первого мая.
Такая вот разительная метаморфоза произошла с ней за эти странные пять дней, проведенные в лесу. Когда ей задавали вопросы, как же все-таки она провела это время, она всегда отвечала, что совсем ничего не помнит. Причем поначалу у всех было чувство, что ребенок что-то утаивает. Услышав вопрос, она замирала, взгляд ее становился прозрачным и у того, кто заглядывал в этот момент в ее глаза, создавалось ощущение, какое бывает, когда плывешь во время заката на лодке и смотришь сквозь чистую воду вниз, туда, где змеисто шевелятся морские водоросли, снуют размытые тени и сгущается темнота. Со временем эта странность исчезла, и она только буднично и коротко отвечала:
— Ну потерялась и потерялась, чего пристали? Живая же, никто не съел.
Похоже было, что она и сама забыла со временем все связанное с этими событиями, и лишь изредка что-то барахталось на задворках сознания, толкалось изнутри о стенки головы, как стайка проныр-мальков.
А собаки с тех пор так и относились к ней с враждебностью и подозрительностью.
В Москву они въехали через Лосиный остров задолго до рассвета. После того, как кончились спасительные деревья пришлось снова пробираться тихими улочками, чтобы избежать встреч с милицией. В крайнем случае, конечно же, можно было бы представиться детьми сверхбогатого папы, которые с утра пораньше решили выгулять любимого коня, но после месяца с лишним пребывания в лесах заросшее лицо Сатира и помятая одежда обоих неизменно вызвали бы подозрение. Поэтому старались избегать широких проспектов, предпочитая проходные дворы и парки.