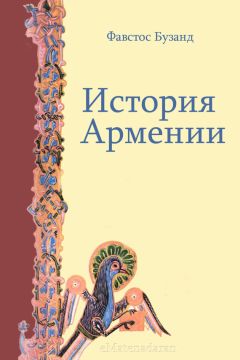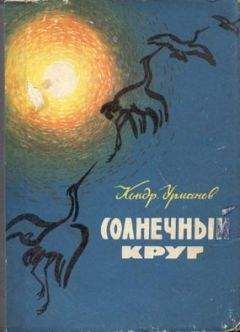Юрий Карабчиевский - Тоска по Армении
У меня уже не хватает ясности взгляда, чтобы оценить, кто как молчит. Но молчат все, это мне ясно. И вдруг, совершенно неожиданно, вступает шофер. «Ни-каг-да ни слышал, — говорит он, — ни-каг-да! что Айвазовский — плохой художник. Ни-кто! мне такого ни гаварил!» Я смотрю на него и глазам не верю: он сидит лицом к нам, спиной к рулю, разговаривает и оживленно жестикулирует. Ну, сейчас мы врежемся!.. Но мы не врежемся. Мы давно стоим, мы уже приехали, и мотор заглушен, так все и есть. Я еще бормочу по инерции: «Ну зачем он вам, Айвазовский, когда у вас есть Сарьян и Аветисян…» — но разговор уже, как видно, окончен. Камсарыч встает, и Акоп встает. И вдруг Акоп садится обратно. «Еще минутку, Володя». И уже обращаясь ко мне: «Ладно, оставим живопись, (Я так и не узнаю, согласен он со мной или нет.) Оставим живопись и все, что касается вкуса. Но скажи мне, почему Сароян — не армянский писатель?»
Потому что — американский, говорю я ему. Потому что он пишет по-английски, а не по-армянски. Это факт американской литературы и английской языковой культуры. Язык определяет принадлежность писателя и только язык. Джозеф Конрад говорил по-английски с акцентом, и все же он английский писатель, а не польский. И Кафка — немецкий, а не чешский и не еврейский. Как Борис Пастернак — не еврейский поэт. И даже Мандельштам, никогда не замалчивавший своего происхождения, наоборот, с гордостью его объявлявший, был тем не менее русским поэтом и только русским. Можно говорить о вкладе нации в ту или иную культуру, но отечество писателя — его язык.
— Что ж, может быть, — говорит Акоп. — Может быть, у других это так. Сомневаюсь, но может быть. У других. У армян — иначе. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Знаешь такой рассказ у Сарояна?
Я не читал такого рассказа и вообще, по секрету сказать, не читал Сарояна (прочел уже потом, по прибытии), но название кажется мне потрясающим. Здорово, говорю я, ничего не скажешь, здорово, ладно, кто его знает, возможно, ты прав… И тут же, примерив на свой аршин, дважды наполнив это название иным содержанием, я испытываю острую зависть к армянам. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Прекрасно. Гордо, мужественно, трогательно. Где бы ты ни был кричи: я русский! Глупо. Русский так русский, чего орать-то. Глупо и — подозрительно. Где бы ты ни был кричи: я еврей! Смешно, пародийно, анекдотично. Да и кто это станет кричать, какой идиот?
Ничего мы не выяснили, но остались друзьями. Мы выходим на улицу почти в обнимку, Олег и Камсарыч за нами. Акоп — уроженец Эчмиадзина, и, пока мы идем по аллее к храму, он рассказывает, как вот по этим дорожкам катался в детстве на велосипеде. Я намеренно не вслушиваюсь в его слова, я пытаюсь настроиться на нечто возвышенное: раннее христианство, четвертый век, католикос, святые таинства… И упираюсь глазами в очередной щит-транспарант. Гады, мало что по-армянски, так еще специально для меня по-русски! И теперь долго остается во рту тупая тошнота привычных и бессмысленных словосочетаний…
«Ах, Россия-матушка, крепка твоя лапушка. Бьет ли, ласкает, а все она тут, все с нами!»
Только Пушкиным и разгонять эту нечисть…
Кружева ограды и выставленных вдоль нее хачкаров. Мы входим в ворота, башенки храма маячат вдали сквозь зелень. И Акоп говорит мне… Не помню что. Ничего не помню, что было дальше. Только зрительные-растительные ощущения. Только двуцветные кружева, зеленые — зелень и кофейные — камень. И над всем этим — башенки, башенки, башенки, много башенок, целых четыре штуки. Бутылок, я думаю, было две, и Камсарыч почти не пил, а мне без конца подливали, вот оно что… И последние мои слова, которые я еще помню, произнесенные уже без мысли и воли. О храме: какое гармоничное здание, но две боковые башенки лишние, я бы их снял. «Молодец! — говорит Акоп. — Если раньше не знал — молодец! Боковые башенки лишние, поздняя пристройка, тринадцатый век».
На обратном пути я помню коробку. Огромную плоскую картонную коробку, как два сложенных противня. Откуда-то из зелени, из глубины парка, принесли ее Акоп и Камсарыч и, усевшись в машине рядом, положили себе на колени. Потом я увидел ее уже в помещении, в чистом прохладном зале со стульями-бочонками вдоль длинного стола, с застекленными стендами, в которых темнели колбы с вином. Этикетки с паспортными данными вин были то ли наклеены на каждую колбу, то ли прислонены к ней, уже не помню. Коробка стояла на столе раскрытая, там в лавашной скатерти, на подстилке из зелени, бугрились и поблескивали еще не остывшие длинные кебабы. Женщина в белом халате внесла поднос. Тоже — колбы и этикетки. Уж наверно, они были наклеены. Пили и ели и говорили тосты, и я позорно спал на своих ладонях, и никто не сделал мне замечания. Потом мы как-то оттуда выбрались, передавая друг другу слово «дегустация», в тот момент сонное и тошноватое. Но и это было еще не все. Мы еще заезжали в Звартноц, там смотрели рисунок прекрасного храма и видели разнообразные камни, из которых он будто бы состоял. Все камни, вне зависимости от формы, размеров и былой высоты положения, лежали на площадке на одном уровне, под огромным, уже потемневшим небом, лишенные всякого волевого импульса, бессильно подчинившиеся энтропии. Иллюстрация всеобщего равенства, сказал я Олегу. (За четкость сказанного не ручаюсь, но подумал довольно ясно, это я помню, благо мысль была готовая и не совсем моя).
Нас подвезли, спасибо, к самому дому, мы долго обнимались и трясли руки, и потом я спал ничком на кровати, не раздеваясь, а часов в десять, умывшись холодной водой, уже набирал заученный номер.
— Знаете что, — сказал я на этот раз. — Больше я ему звонить не буду. Я привез ему книги от его друга, я мог бы их просто передать, занести. Но если он захочет, пусть позвонит, запишите, пожалуйста.
— Ну что, — спрашивает Олег, — опять, как всегда?
— Мало ли, — говорю я, — занятой человек. И не надо, мне что, только книги отдать…
Потом мы пьем чай у Цогик Хореновны, смотрим телевизор, и я — с большим интересом, чего никогда не бывало. Молодой артист, очень музыкальный, поет без сопровождения народные песни. Не могу описать, как это прекрасно, как гармонично слиты голос, язык и мелодия. Добрейшая наша хозяйка порывается перевести слова, но я говорю: «Не надо, я все понимаю». — «Так быстро научились? — смеется она. — Подумайте, ва! какой способный!»
2
В субботу мы расстаемся с Олегом. Он идет шататься по городу, а я навещаю родственников. Да, вот так, ереванских родственников. У меня, чтоб вы знали, здесь живет троюродный брат Володя, и имеется телефон его тещи. Я звоню с утра — а он уже там. С женой и дочкой. Никаких «на днях», надо ехать немедленно. Это рядом, две остановки. Он встречает меня у трамвая, усатый и черный, как армянин, с живой очаровательной куколкой на руках, уже безусловной армянкой. Он рад, я тоже, он добрый человек, мы давно не виделись. А главное, я чувствую с первых же слов, что у меня появляется объективный источник, наш человек в Ереване.
Но сначала спрашивает, конечно, он.
Ну что ж, говорю, по-моему, город не блеск. Серенький средне-советский город, изо всех сил прущий в столицы. Отсюда этот пышный провинциальный замах, такая назойливая монументальность среди трущоб и всеобщей незавершенности. И вот, с одной стороны, официоз, выходишь, допустим, на площадь Ленина — и хочется предъявить документы. С другой стороны, тут же, через две улочки, — самодельные жилые сараи, занавешенные какими-то тряпками, и рядом — общественная уборная, к которой на выстрел не подойдешь. А еще дальше, в пяти минутах, открывается вдруг такой модерн, такой вызывающе смелый поиск, что просто поражаешься, как разрешили. И порой, сознаюсь, бываешь солидарен с теми, кто мог бы не разрешить, и даже сетуешь, что же они прошляпили! Потому что выполнено все очень небрежно и с фоном совершенно не сочетается, и от замысла остается лишь вызов и все тот же провинциальный замах.
Но это внешняя сторона, и она ничего отражать не может, кроме обычной нашей безалаберности и чиновных склок наверху. К собирательному понятию «армяне» это, как я понимаю, не имеет отношения. Армяне же мне безусловно нравятся. Что значит «все — не все»? Первая оторопь всеобщей приязни у меня уже, по-моему, прошла, я уже вполне различаю отдельные лица. И конечно, масса — всегда масса, чернь — она и в Африке чернь. Но что мне здесь импонирует бесконечно — это то, что стержень природного благородства я чувствую если не в каждом, то очень во многих, а если слегка отодвинуться — то и во всех. Не в каждом, нет, — но во всех вместе. Мне приятно общаться с армянами, мне удобно жить среди них, я ощущаю какую-то непривычную свободу, будто и вправду уехал в другую страну, и это не только потому, что — язык, естественное отчуждение и невмешательство, но и по многим другим причинам. Здесь и дух свободного предпринимательства, осеняющий в Армении любую деятельность; и очевидная чуждость, неуместность, навязанность всех наших рабских форм; и некий несомненно возвышающий импульс, который сообщен мне с первого дня, и это не за счет унижения окружающих, а, наоборот, за счет всеобщей энергии, дающей чувство приподнятости и возможности. И общий тон доброжелательства — несомненен, и если ты скажешь, что это им выгодно, то ты ни на йоту не изменишь моего отношения. Быть добрым вообще, в конечном счете, выгодно, тем не менее не все это хотят понимать. Ну и еще один небескорыстный вывод, одно очень важное для меня подтверждение. Населения здесь не больше трех миллионов, остальные армяне рассеяны по белу свету. И вот, у этого крохотного народа, зажатого границами и горами, есть в с е, чем должна обладать нация. И те армяне, что сюда приезжают, на время и насовсем, и те, что никогда здесь не были и не будут, те, что знают армянский и те, что не знают,