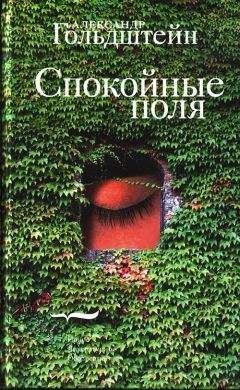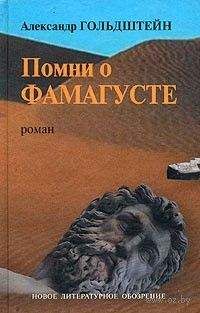Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики
Брежневская цивилизация (сроки ее — 20-летняя вечность, с 1964-го по 1985-й) зачеркнула хрущевскую межеумочность, но и вобрала в себя некоторые ее качества, преобразовав их по-своему. Необычный смысл этой эры заключался в том, что она стала первым длительным стабильным периодом советской истории, первым нереволюционным периодом в ней. На языке позднейшей горбачевской революционной динамики он справедливо получил наименование застойного, то есть такого, что исключает любую революционность. Тяготение к стабильности являлось сильнейшей жизнестроительной интенцией брежневизма. Здесь его корень, нерв и реальная сущность. Здесь его отчаянный, приобретенный за десятилетия советской истории страх перед кровью и хаосом, а также перед естественным кипением чужой жизни. У брежневизма — идеологии и практики закатного фазиса империи, о котором закате, впрочем, подозревали не столь уж многие, — было потрясающее по интенсивности и драматизму стремление оставить все как есть, сохранив статус-кво. Не только о чистой воле к власти, о маниакальном желании притянуть ее к себе всеми щупальцами и отростками должна идти речь; племени правящих было свойственно инстинктивное знание природы доставшейся им страны, которое сводилось к тому, что в условиях централизованного механизма, являющего собой конгломерат сопредельных национальных образований, любая серьезная реформа, то есть серьезное послабление, чревата государственным распадом. Демократия и империя, устроенная по российскому, теллурократическому, сухопутно-сопредельному принципу, суть вещи несовместимые. Между ними нужно выбирать: или — или. Реформа — это хаос, потому что, начавшись, она сама по себе не останавливается, и, чтобы ее пресечь, нужна немалая кровь, которая брежневизму претила. Фактически он стал заложником безысходного противоречия: уже давно пора было подновить рептильные органы, но активность грозила обернуться ужасающими последствиями. Полный цугцванг на имперской доске, когда партнеры не могут сделать и хода, не испортив своей позиции, предопределил специфическую внутреннюю линию брежневизма: ничего не менять, бесконечно наращивая однообразное тупое количество (станков, тракторов, танков, ракет) в ущерб социальному качеству и мобильности. Решено было проедать накопленные запасы, которых повсюду лежало так много, что казалось — они не кончатся никогда.
Именно брежневизм и являлся «социализмом с гуманным лицом». Ему, а не Пражской весне с ее заурядными либерально-демократическими поползновениями — осуществись они, и от реального социализма не осталось бы камня на камне — истинно приличествует этот энигматический титул, повергавший в смятение легионы истолкователей. Кто-то остроумно заметил, что Варшавский пакт бросил танки на Прагу, чтобы ввести там цензуру. Очень верные слова, и в полном соответствии с ленинским высказыванием о том, что в «наших условиях» свобода печати смерти подобна. Социализм с лицом человека — это не цензурные вольности, нет, это совсем другое дело. Это когда социалистическая власть заключает с народом негласную конвенцию о том, что при соблюдении им, народом, определенного этикета она, власть, на него превентивно не покусится. Власть как бы умоляет народ: не трогай, не задевай меня, живи, как положено, сообразно установленному мною закону, и я тебе тогда по всей строгости не отвечу. И мы с тобой уживемся под одной крышей от Прибалтики до Курил.
Условия конвенции соблюдались. Чтобы получить политический срок, нужно было теперь уже что-то сделать, как-то о себе заявить незаконным или неодобряемым образом. Власть хотела немногого: ритуализованной лояльности, не предполагавшей душевного соучастия. Знаменитый двойной нравственный счет, о котором с содроганием писали публицисты, на самом-то деле означал иметь альтернативную мораль для домашнего пользования, она больше не требовала человека сполна, со всеми его потрохами, она всего лишь ждала от него честной игры, так сказать, fair play — вот это отдашь кесарю, а вон то можешь забрать себе. Стабильный советский стиль кристаллизовался только при Брежневе; неохватная территория страны и национальная пестрота сообщали ему резкую неоднородность. Наибольшей концентрации советская константа бытия достигла в России, но инородческие республики, в которых я больше осведомлен, отчасти сохранили традиционное лицо — пусть только намек, только слабое веяние, и все же, и все же…
Национальные по форме, социалистические по содержанию? Скорее наоборот. Впрочем, нет, там была более сложная смесь. Проведя свою предыдущую жизнь на закавказской исламской окраине распавшейся Ойкумены, в теплом, морском и фруктовом, прожженно-циничном и обаятельно-космополитическом городе, где даже честная бедность не так ужасала взор, как на пронзенном морозом русском разоре, я говорю вам: свято почитал город свои ритуалы, но относился к ним очень по-разному. Партия и мечеть сожительствовали на близкой дистанции, и первая делала вид, что борется со второй, но в целом терпела ее, ибо они принадлежали к разнокачественным модусам тамошнего мироустройства: внешнему и внутреннему, органическому.
По-восточному пластичный мусульманин советский знал, что есть жизнь сверху — чрезвычайно серьезная, но как бы и не совсем, и снизу: она настоящая. Первая была жизнью официальной, организационно-направляющей и административно-научной; единожды в нее залетев, мусульманский человек сноровисто рукоплескал и раскланивался, руководил и внимательно слушал начальника. Исламский функционер выполнял ритуалы отрешенно от их содержания, полагая, что все дело в правильном жесте и букве, каковая есть суть. Он не надрывался душевно, не лелеял внутри себя идеалов, не впадал в садо-мазохистский экстаз московской молодняцкой клаки, от истошных партсъездовских воплей которой звенело в ушах. Внешняя жизнь человека на исламском советском Востоке была абсурдистски театрализована на общий государственный лад и дополнительно инкрустирована на сугубо местный манер. Амальгама подчас обретала черты потустороннего комизма, как в веселые дни приезда в город разваливающегося на тихом ходу Брежнева, напоминавшего прелестного разборного старичка из классического плутовского романа о похождениях Гусмана де Альфараче. Карнавал, обступавший визитера, был скроен по старинным сюжетным канонам пикарескной прозы, где каждый находится не на своем месте, с невероятным старанием играя отведенную ему шутовскую роль.
Но у советского мусульманского человека была и вторая жизнь, единственно милая, к которой вожделело его семейное сердце и которая тоже доползла до своего разрешенного апогея в годы спокойной цивилизации. Он выдавал замуж дочку и женил сына, отвозил в мечеть покойника и степенно вкушал национальные сласти, испеченные женой или опытной родственной приживалкой. Он делал это с плавным и почти бессознательным воодушевлением, вдыхая теплый воздух корпоративной солидарности. Никакая советская власть не могла, да и не очень старалась перешибить поминальный четверг, когда во второй половине дня пустели учреждения и люди собирались в доме умершего родственника или знакомого, где слушали разговоры муллы и пили чай с мягкой, приторно-сладкой халвой (ислам сладкояден, как счастливо обмолвился один тель-авивский поэт).
И все это происходило очень, очень долго, не одно столетие — в тех уютных пределах, где жили «кагалом» в теплых домах большие патриархальные семьи, и отец приторговывал помаленьку, женил сыновей, выдавал дочерей замуж, мать распоряжалась по дому, покрикивая для порядка на бедных родственников, в казанах дымился плов, который удобно есть прямо руками, а покойника отвозили в мечеть, чтобы после, спеленутого, опустить в общую землю, и было много сытной, жирной еды, после которой тяжело и сладко спалось, а потом в протопленных комнатах зачинались дети, и гордый отец стоял чуть поодаль, а мамки и няньки толпились возле смущенной, счастливой матери, и тот, кто родился, начинал приторговывать, девочка же носилась по дому, чтобы вскоре быть отданной в другой, тоже добротный и крепкий дом, и все они умирали и возрождались, а покойника отвозили в мечеть, чтобы затем, завернув в полотняный кокон, опустить в общую землю, и женщины плакали и кричали, а раз в год самые впечатлительные и не склонные к практическим занятиям мужчины тоже радостно плакали и кричали, раздирая себе кожу, исхлестывая тело цепями, дабы плачевным и экстатическим действом помянуть прекрасного юношу Хусейна, убитого, почитай, уже более тысячи лет назад («Горе, какое горе, Хусейн!»), и потом они все резали барана и ели руками плов, дымившийся в казанах, покуда мамки и няньки восхищенно охали, пеленая младенца, и тот начинал приторговывать.
О плове я вспомнил не случайно: отредактировав и отчасти сочинив в трудную минуту пару-тройку жизнеописаний туземной словесности, я обнаружил, что в советский период ее наиболее массовых, простонародных творцов всерьез волновали три темы — горькая участь братьев по ту сторону реки Аракс, зависть литературных соперников, готовых тотчас же настрочить донос падишаху, и, что особенно трогало и казалось мне чудом, приготовление плова. Бараний, куриный, фруктовый, он говорил сам за себя, прорастая мясом и рисом сквозь чахлую вербальную живопись, он предстательствовал за целый уклад, исполненный дорефлексивного колыхания, неспешного повелевающего слова, овечьей блеющей скученности. Вот почему я с таким изумлением смотрел достопамятный экзальтированный фильм Гейдара Джемала о хомейнистском и постхомейнистском Иране: ничего похожего я в своем мягко дремавшем шиитском заповеднике отроду не видал, даже и после того, как там на короткое время совершилась антизападническая революция.