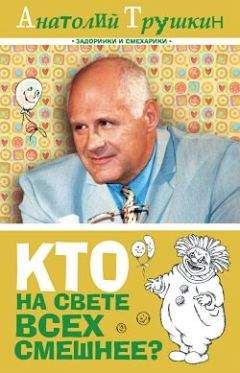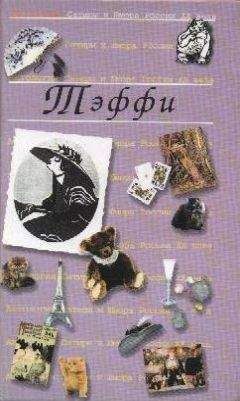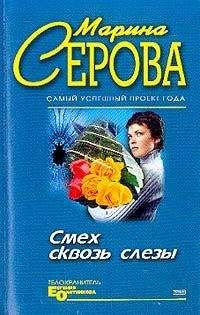Владимир Колыхалов - Кудринская хроника
Теперь, когда Пыжино отдалилось и ночлег в закопченной избе у стрижиного яра близок, я думаю о друге моем. Что-то в нем изменилось, будто сломалась пружина. А отчего с ним такое — в толк пока не возьму. Есть надсада в душе, но что за причина? Звал с собой — не пошел, сослался на больную ногу. Говорит, оступился на днях, припухла щиколотка, а нам-де надо еще посетить таежное озеро, морошки поесть с белым хлебом и молоком.
Спокойно шагая к Сосновке, перебираю в памяти все, что знаю о художнике Владимире Гроховском.
Друг мой родился в Колпашеве. Тогда там деревня была, городом Колпашево еще и не дразнили. А детство свое художник провел в Тискине и Баранакове, из которых особенно (он рассказывал мне) памятным было ему Баранаково. Это деревня старинная, истинно наша, нарымская, на берегу Оби, в устье речушки Ягодной. Дома в большинстве там в два этажа, с дворами огромными, крытыми, а во дворах — каких только нет предметов: нарты, кисовые лыжи-подволоки, невода, сети, самоловы, кошевки, лодки, золоченые дуги, наборные — с медными бляхами — сбруи. Эти сбруи отцы заставляли мальчишек чистить до блеска перед дальней дорогой.
И жили в деревне почти сплошь рыбаки да охотники.
Возвращения с охоты ждали и стар и мал. Морозным каким-нибудь днем завалятся в избу заиндевелые, бородатые, на пол натащат медвежьих, лосиных шкур, а на деревянные штыри под притолоку понавздевают связки пушнины. Тут и лисицы, и выдры, и белки, и рыси, и колонки, и горностаи. Охотники сядут сумерничать. Поет ведерный самовар, за окнами синие сумерки, краснеет бок железной печки, на полу бегают блики от гудящего в топке пламени. Мальчишки, забравшись на русскую печь, на полати, слушают рассказы, в которых правда причудливо переплетается с вымыслом. Жуть мальчишек берет! Черт-те что начинает мерещиться. Полутьма. И таинственно так сверкают меха… И снова уходят в урман охотники, подвязав себя опоясками, пристегнув ножи в ножнах.
Это запало Гроховскому в душу однажды и на всю жизнь. Где бы он после ни был — на войне ли, куда ушел в сорок втором, в Казани ли, где учился на живописца, — всегда жило в нем чувство родины, милой таежной сторонушки…
На войне его ранило. Он мне говорил:
«Несу донесение в штаб. И вдруг пуля ударила в грудь, как кирпичом, в правую сторону. Первая мысль была: жив! На спине горячо от крови. Значит, навылет… Пока до своих, спотыкаясь, дошел, кровь изо рта пошла… В машину меня… Отчаянный у нас был шофер — Котельников. Довез до санбата благополучно, а там санитарочка — молодая, красивая! На нее загляделся, когда перевязывала, и боли не чувствовал…»
Мать его, Зинаида Константиновна, учительница, орденоносец, давала читать мне письма сына с войны. И я тогда кое-что из них выписал с ее разрешения. Сколько же в письмах этих было святого, нежного! Я много раз брался их перечитывать…
«Мама, живу хорошо, пайка хватает, но частенько приходят на ум сковородка с домашними блинчиками или еще там чем-нибудь домашним. Ну, это ерунда… Нам выдали шапки, фуфайки, ватные брюки, меховые рукавицы, теплые портянки; скоро дадут теплое белье… Пиши, как живешь, как живут тетя и дядя. Дядя Гриша, наверно, думает, что мне, как ему в германскую, винтовка плечи отдавила. Нет, дядя, у меня автомат. Видел в газетах? Из него как из пулемета можно стрелять. А у нас, как только свободное время, снимаемся в поле — и по окопам патроны собирать. Их здесь такое множество, что и не представишь. Наберем патронов и пошел палить. Вот только жалко — некого пока бить кроме дохлых фашистов, у которых одни кости остались. А так ни птиц, ни зверя, ничего здесь нет. Пустыня…»
«Скучно, мама, здесь весной. Ни уток, ни рыбы, даже скворцов нет. Черт ее знает, что за местность! Стоит автомат без дела…»
«…шинель у меня, как у человека с ружьем, но я на это смотрю свысока. Один философ сказал, что одежда тленна. Хорошо, если принесу свою голову на плечах…»
«…я сейчас пошел на поправку быстро. Уже хожу далеко, только осталось зажить ране: на это, пожалуй, месяц потребуется. Ранен был в грудь, но кость нигде не задело, пуля ловко проскочила, на том ей спасибо. Не застряла поганая фашистская железка в русском человеке!.. И все было бы ладно, кабы уколами не донимали, разными вливаниями, а иголки одна другой больше… Дяде скажи, чтобы усы свои не сбривал. Когда приеду — померяем, чьи больше, мои или его».
«Мама, я слышал, что служащим теперь дают всего 400 граммов хлеба, и тебе, наверно, не хватает. Но я думаю, что дядя Гриша и тетя Васса тебя не забывают… А я, мама, живу хорошо, обо мне не беспокойся. В землянках тепло. Рисую, в полку считаюсь хорошим художником. К тому же сейчас назначили редактором батарейной газеты, так что нахожусь больше в тепле…»
«Перевод твой, мама, на 250 рублей, получил. Как раз на дорогу, а то ехать без денег никак нельзя, трудно. Но солдат, конечно, везде сядет, где боком пролезет, где на ура. Я когда ехал из Ленинграда, везде пришлось брать штурмом. Садился на поезд, как обычно, без билета. Чуть в комендатуру не попал, все же сел, сначала на подножку, потом в тамбур, потом, преодолев упорное сопротивление проводника, в вагон. А оттуда уж не выгонят солдата… На деньги твои прикупил красок, пришлось запастись ими, а то ведь у нас там их не достанешь, а ведь это жизнь моя. Для меня теперь все равно что краски, что хлеб. Искусство теперь от меня неотделимо… Сейчас бы побродить по сибирской тайге. Такой красивой природы, как у нас, я еще не видел нигде. Когда же осуществится моя мечта стать художником и писать прекрасную в своей дикости нетронутую природу родной Сибири!»
Потом, поступив в Казанское училище живописи, ваяния и графики, он по-прежнему будет грустить по нарымским просторам и писать матери как единственный и любящий ее сын трогательные письма.
«Почему ты, мама, считаешь, что я себе городскую профессию выбрал? Не обязательно художнику в городе жить. В деревне прямо картины с натуры писать можно. Академик Пластов ведь в деревне жил, в войну председателем колхоза работал, зато жизнь знает и в картинах его правда. Когда меня спрашивают, поеду ли я учиться после училища, я говорю — поеду в таежную академию. Еще Суриков говорил, что самая лучшая академия — это природа, жизнь, у них и учиться художнику надо. От художественного мира отрываться, конечно, нельзя, но гораздо лучше жить в деревне, в центре своих тем, сюжетов. Я ведь хочу быть художником Сибири, нашего Нарымского края… Вчера во сне видел, что приехал домой. Сегодня шел по саду, и где-то чайка закричала. У меня сердце так и оборвалось, как будто ветром с Оби подуло… Скажи Африкану Ивановичу, чтобы он не очень на меня сердился. Приеду — буду портрет с него маслом писать, в охотничьем костюме, с ружьем и собакой…»
«…стоит настоящая золотая осень, а я вот во сне и наяву тайгу вижу. Недавно на Волге был, пароходы гудят, плещется вода, и такая на меня тоска нашла, хоть волком вой. Если бы сейчас уехать домой, в Нарым, и никуда не уезжать больше».
«Вчера был огорчен — получил по анатомии „четыре“. Главное, ведь знаю материал, могу нарисовать любую кость скелета, а тут попал какой-то хрящ в запястье… С каждым днем, мама, все больше узнаешь, какая сложная штука — рисунок! Нынче вот только начинаю понимать это, когда окончательно пересели на живую картину…»
«…хотел Обь в бурю писать, но вода не получается еще… Этим летом уж поработаю! Как хочется, мама, Сибирь писать. Иногда такие интересные композиции в голове рождаются, именно такое наше, сибирское, но пока не по силам, как говорится, мало каши ел, да и с натуры все надо. Вот уж посочиняю, когда кончу училище… Вчера были в музее с нашим преподавателем. Показали нам две огромные картины художника. Художник с мировым именем, когда-то в нашем училище учился, но сейчас у нас неизвестный, потому что он в Америке… Свихнулся, конечно, но эти две картины — такие умопомрачительные вещи, они у меня вот уже два дня в глазах стоят, невозможно забыть, такое потрясающее впечатление производят. Одна называется „Бойня“. Жуткая вещь! Кровь, мясо и мясники, как звери. А другая — „Обмывание водой“. В деревне бабы, ребята, мужики водой обливаются…
Как в Казани ни хорошо, а я не могу без Сибири, а скорей бы закончить учебу и возвратиться…»
И он возвратился домой навсегда.
Тут его родина, тут его корни. И он твердо стоит на этой земле, которую так воспел и прославил. Но что же гнетет его? Однако в душу к нему я не полезу, не в моих это правилах. Захочет открыться — откроется сам.
В Сосновке зажглись огни, и среди многих освеченных окон есть два оконца избушки у яра. Вглядываюсь: света в них нет. Но от порога подальше прыгает пламя костра. На таганке вижу два котелка. Один с чаем, конечно, другой — с ухой. Владимир Григорьевич терпеливо меня поджидает к ужину.