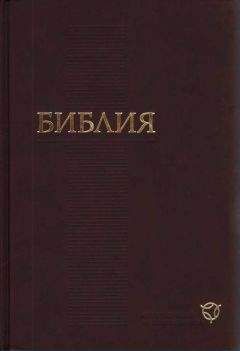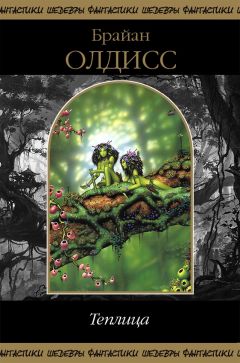Эллио Витторини - Сицилийские беседы
— О ком ты говоришь? — спросил я. — Об отце, о твоем дедушке, — сказала мать. — А ты думал, о ком я говорю? — Так ты говоришь о дедушке? Это он заводил граммофон?
— Да нет же… Это твой отец заводил граммофон и менял пластинки. Все время бегал менять пластинки. И все время танцевал. Он был великий танцовщик, великий ухажер. А когда он выбирал меня дамой и вертел меня, мне казалось, будто я снова стала маленькой девочкой. — С отцом тебе казалось, что ты стала маленькой девочкой? — сказал я.
А мать сказала: — Да нет, не с отцом, а с твоим дедушкой… Он был такой большой и высокий, стройный, с поседевшей русой бородой… — Так, значит, это дедушка танцевал?
— Твой отец тоже танцевал. Под граммофон, со всеми этими женщинами, которых приводил ко мне в дом. Слишком много танцевал… Он был рад танцевать каждый вечер. А когда мне не хотелось тащиться на вечеринку невесть куда, к какому-нибудь обходчику в дом, он глядел на меня так, будто я у него год жизни отняла. Но нам-то всегда хотелось на праздник, если он туда отправлялся…
— Кто он? — сказал я. — Отец или дедушка?
И мать сказала: — Дедушка, дедушка…
XVII
Мать говорила и говорила, то об отце, то о дедушке, и всякий, о ком она говорила, любой мужчина в моих мыслях непременно был вроде Большого Ломбардца.
Я не помнил дедушки, помнил только его руку, которая держала меня, трех- или пятилетнего мальчугана, и вела по улицам и лестницам той точки на земле, где он жил. Но я мог представить его себе вроде Большого Ломбардца — того рослого соседа по купе, волосатого и с русой бородкой, который там, в поезде, говорил о своей лошади, о дочках-женщинах и о другом долге.
— Я думаю, он был Большой Ломбардец, — сказал я.
Мы покончили с дыней, и мать, встав из-за стола, собирала тарелки. — Что такое Большой Ломбардец? — сказала она.
Я пожал плечами. В самом деле, я не знал, что ответить, и сказал: — Это такой человек… — Человек? — сказала мать. А я ответил: — Да, высокий, большой… Разве дедушка не был высокий? — Высокий. Так Большим Ломбардцем называют высокого мужчину?
И я сказал: — Не совсем так… Это не за рост…
А мать сказала: — Так почему ты думаешь, что он был Большой Ломбардец? — А я сказал: — Как так почему? Разве дед не был белокурый, с голубыми глазами?
И мать сказала: — Так вот что такое Большой Ломбардец? Белокурый, с голубыми глазами? Не так уж трудно быть Большим Ломбардцем!
— Ладно, — сказал я. — Может, нетрудно, может, и трудно.
Мать стояла у стола, скрестив руки под старыми грудями, и смотрела на меня искоса, закутанная в красное одеяло.
— Не так уж трудно быть белокурым и голубоглазым, — сказала она.
— Это-то верно, — сказал я, — но Большой Ломбардец может и не быть белокурым.
Я подумал об отце, голубоглазом, но не белокуром, и так как он тоже был вроде Большого Ломбардца, особенно в «Макбете» и в других своих ролях, в тех, что он играл на железнодорожных подмостках для обходчиков и железнодорожников, я сказал:
— Он может быть только голубоглазым.
— И что тогда? — сказала мать.
А я думал о том, каким был на самом деле Большой Ломбардец, мой сосед по купе, который говорил о новом долге, думал, скучая по нем, и мне показалось, что голубых глаз у него не было, только волос очень много.
— Вот что, — сказал я. — Большой Ломбардец — это человек с большой шевелюрой. У дедушки были густые волосы?
— Густые волосы? — сказала мать. — Нет, совсем нет. Борода у него была густая, светлая и поседевшая… А волос на макушке совсем не было… Не был он Большой Ломбардец!
— Нет, — сказал я, — все равно он был Большой Ломбардец.
А мать сказала: — Как это может быть, если ты сам говоришь, что у Большого Ломбардца должна быть большая шевелюра? У него волос было мало… — А я сказал: — При чем тут волосы? Я уверен, что дедушка был Большой Ломбардец. Наверно, он и родом был из ломбардских мест.
— Из ломбардских мест? — воскликнула мать. — Что такое ломбардские места? — И я сказал: — Ломбардские места — это места вроде Никозии. Ты знаешь Никозию?
А мать сказала: — Я о ней слышала. Это там, где пекут хлеб с орешками наверху… Но мой отец был не из Никозии.
— Есть еще много ломбардских мест, — сказал я. — Стерлинга, Троина… По всей Валь Демоне ломбардские места.
— Но дед был не из Валь Демоне. Он не был Большой Ломбардец.
А я сказал: — Есть ломбардские места и не в Валь Демоне. Аидоне — не в Валь Демоне, а место это ломбардское.
А мать сказала: — Аидоне — ломбардское место? У меня когда-то был кувшин из Аидоне. Но сам он был не из Аидоне.
— А откуда он был? — спросил я. — Наверно, из Валь Армерины. В Валь Армерине тоже есть ломбардские места.
— Он был из Пьяццы, — сказала мать. — Он родился в Пьяцце, а потом переехал сюда. Пьяцца Армерина — тоже ломбардское место?
Мгновение я помолчал, раздумывая, потом сказал: — Нет, не думаю, чтобы Пьяцца была ломбардским местом.
Мать торжествовала: — Вот видишь, он не был Большой Ломбардец!
— А я уверен, что был! — воскликнул я. — Даже родись он в Китае, он был бы Большой Ломбардец, я уверен в этом.
Тогда мать засмеялась.
— Ты упрямый, — сказала она. — Зачем тебе понадобилось, чтобы он был Большой Ломбардец?
Я тоже засмеялся, совсем коротко. Потом сказал:
— Как ты о нем говоришь, кажется, он не мог не быть Большой Ломбардец. Не мог не думать о другом долге…
Это я сказал уже всерьез, скучая по тому, с кем я познакомился в поезде, и по людям — людям, похожим на него: по отцу в «Макбете», по деду, по человеку, который был бы его образом и подобием.
— Он должен был думать о другом долге, — сказал я.
— Другом долге? — сказала мать.
И я сказал: — Он не говорил, что наш нынешний долг, наши обязанности слишком стары? Что они умерли, прогнили и исполнять их нет никакого удовлетворения?
Мать казалась растерянной. Сказала: — Не знаю. По-моему, нет.
— Он не говорил, что нужен другой долг? Новый, не тот, что мы привыкли исполнять? Он не говорил об этом?
— Не знаю, — сказала мать. — Не знаю. Ничего такого я от него не слыхала.
Тут мне снова стало казаться, что для меня безразлично — находиться ли здесь, у матери, в путешествии, или оставаться в моем повседневном существовании, и все же, скучая по Большому Ломбардцу, я спросил: — Он был доволен собой? Был доволен собой и всем миром, мой дед?
Мать некоторое время смотрела на меня в растерянности, словно собираясь что-то сказать. Потом передумала и сказала:
— А как же иначе?
Потом снова посмотрела на меня, но я не отвечал ей, и она глядела на меня, глядела, пока не передумала снова и не сказала: — Нет, в сущности, не был. — Ах, не был, — сказал я.
И мать сказала: — Нет, миром он был недоволен.
— А собою был? — спросил я. — Миром он был недоволен, а собою доволен? — И мать сказала: — Да, по-моему, собою — да. — И не думал о другом долге? — спросил я. — Был доволен?
И мать сказала: — А почему бы ему не быть довольным? В конном шествии, в седле он чувствовал себя королем… И у него были мы — три дочки-женщины, все красивые! Почему бы ему не быть довольным?
— Ладно, — сказал я. — Ты, наверно, не знаешь, был он доволен или нет…
XVIII
Потом мать принялась убирать посуду. Крана не было, она мыла тарелки в глиняном тазу с горячей водой, за мытьем начала насвистывать.
— Ты мне поможешь? — спросила она, как только вытащила из горячей воды первую тарелку. Я встал и приготовился ей помогать, она немного потерла тарелку золой и передала ее мне, указав на ведро с холодной водой, чтобы я ополоснул тарелку в этом ведре, а потом ее вытер. Так дело и пошло: тарелка за тарелкой, прибор за прибором, она насвистывала и пела, я следил за ней.
Вернее, мать не пела, а напевала вполголоса старинные мелодии без слов, то мыча, то насвистывая, то издавая какое-то горловое воркование; и она выглядела смешно, эта женщина пятидесяти или пятидесяти без малого лет, с лицом еще не старым, высушенным годами, но не старым, с каштановыми, почти русыми волосами, в наброшенном на плечи красном одеяле, обутая в отцовские башмаки. Я видел ее руки: они были большие, натруженные, узловатые, совсем не то что лицо, — это могли быть и руки мужчины, который валит деревья или пашет землю, между тем как лицо ее было лицом одалиски в каком-то смысле. «Вот наши женщины», — подумал я и имел в виду не только сицилианок, но вообще женщин, в чьих прикосновениях рук по ночам нет мягкости и ласки, и, может быть, потому они бывают порой несчастными, ревнивыми и дикими, что руки у них не как у одалисок, не то что лица и сердца, и этими руками они не могут удержать при себе своих мужчин. Я подумал об отце и о самом себе, обо всех мужчинах, которым нужно чувствовать на себе мягкость рук, и решил, что понял отчасти наше беспокойство рядом с женщинами, нашу готовность дезертировать от них, от наших женщин с грубыми, проворными, почти мужскими руками, такими жесткими по ночам; и как мы попадаем в рабство и зовем королевами женщин, когда они, женщины — одалиски, если такое случится. Поэтому, думал я, мы и любим саму идею высшего света, всего военно-бюрократического общества, иерархии, династии, даже сказочных принцев и королей ради идеи женщины-одалиски, чьи руки взлелеяны для ласки. Нам довольно знать, что они существуют, знать, что такие женщины есть, хотя и отгороженные от нас своими скакунами, гербами, евнухами; и так получается, думал я, что мы начинаем любить весь их праздник с его фанфарами и гербами, их большой гарем, даже их мужчин, и не выходим из игры, но отворачиваемся от женщин и девушек, которые нам ровня, ища взглядом других — мы все: я, мой отец, всякий мужчина, — ища в новых женщинах чего-то нового и не подозревая, что ищем мы прикосновения нежных рук. Так я размышлял и думал о том, какие мы подлецы, когда глядел на руки матери, такие обезображенные, и представлял себе ее ноги, такие же обезображенные, в мужских башмаках: на все это надо закрывать глаза, словно это неназываемое в них — от другой природы. Мать пела — и была как певчая птица, она насвистывала, мычала, ворковала, и ее руки и ноги были ни при чем, и ни при чем были ее годы: важно было только, что она поет, что она как птица, — моя мать-птица, принадлежащая воздуху и — когда она кладет яйца — свету, приносящая свет.