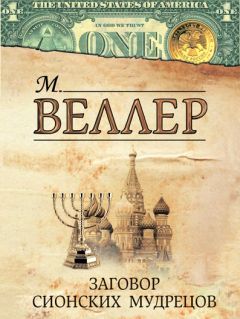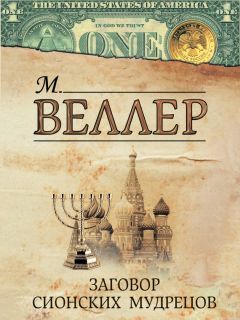Зельда Фицджеральд - Спаси меня, вальс
Непроницаемое марево стояло над опаленной травой на склонах, и песок в блиндажах поднимался в воздух, будто под ударом клюшки, сухой, как порох. Ветки золотарника рвали на клочки солнце; великолепное лето превращало землю в пыль и усыпало ею твердые глиняные тракты. День шел за днем, и наконец наступил первый день нового школьного года — лето закончилось, начиналась осень.
Дэвид отправился в порт погрузки и теперь писал Алабаме письма, полные рассказами о Нью-Йорке. Почему бы ей не приехать в Нью-Йорк и не выйти замуж там?
«Город сверкающих надежд, — восторженно писал Дэвид, — полова с волшебной мельницы, висящей в голубом небе! Люди мечутся по улицам, как мухи над патокой. Крыши домов горят, как золотые короны королей в зале собраний — а ты, любимая моя, принцесса, и мне бы хотелось запереть тебя в башне из слоновой кости, чтобы ты радовала одного меня».
Когда он в третий раз написал то же самое про принцессу, Алабама попросила его забыть о башне.
По вечерам Алабама думала о Дэвиде Найте и до конца войны ходила в варьете с летчиком, похожим на пса. А война закончилась неожиданно — объявлением на занавесе в варьете. Прежде была война, а теперь будут еще два отделения программы.
Дэвида опять прислали в Алабаму для демобилизации. Он рассказал Алабаме о девушке, которая была с ним в отеле «Астор», когда он напился почти до бесчувствия.
«Бог ты мой, — сказала себе Алабама, — ничего не поделаешь».
Она вспомнила о погибшем механике, о Феликсе, о верном псе-лейтенанте. Ей тоже было, в чем себя винить.
Алабама сказала Дэвиду, что не сердится из-за девушки: она, мол, верит, что верность хороша, только когда она естественна. Наверное, и ее, Алабамы, есть вина в том, что случилось.
Как только Дэвид решил все свои проблемы, он позвал Алабаму к себе. Судья купил дочери железнодорожный билет на север в качестве свадебного подарка, Алабама ссорилась с матерью из-за свадебного платья.
— Не хочу так. Хочу, чтобы оно падало с плеч.
— Алабама, как ты себе это представляешь? Как же оно будет держаться, если его ничто не держит?..
— Ах, мамочка, ты придумаешь.
Милли рассмеялась довольным и грустным смехом — и снисходительным.
— Мои дети думают, что я все могу, — благодушно проговорила она.
Уезжая, Алабама оставила матери записку в ящике комода:
Моя самая любимая мамочка!
Я не такая, какой ты хотела бы меня видеть, но я всем сердцем люблю тебя и каждый день буду тебя вспоминать. Это отвратительно, что мне приходится оставлять тебя одну, ведь мы все разъехались в разные стороны. Не забывай меня.
Алабама.Судья проводил Алабаму на вокзал.
— До свидания, дочка.
Алабаме он казался очень красивым и недоступным. Она боялась заплакать, ведь ее отец был таким гордым человеком. Джоанна тогда тоже боялась плакать.
— До свидания, папа.
— До свидания, малышка.
Поезд умчал Алабаму из страны мечтаний ее юности.
Теперь Судья и Милли сидели на веранде одни. Милли нервно хваталась за веер из листьев карликовой пальмы, Судья изредка сплевывал между виноградными лозами.
— Как ты посмотришь на то, чтобы перебраться в дом поменьше?
— Милли, я прожил тут восемнадцать лет и не собираюсь ничего менять на исходе своих дней.
— Остин, у нас нет москитных сеток, и каждую зиму промерзают трубы.
— Меня это устраивает. Я остаюсь.
Старые ненужные качели негромко скрипели на ветру, который каждый вечер прилетал со стороны залива. Из-за угла доносились голоса детей, игравших при электрическом свете и сотворивших мстительный трюк со временем. Судья и Милли молча сидели в своих некрашеных качалках. Сняв ноги с перил, Судья встал, чтобы закрыть ставни. Наконец-то он стал хозяином в своем доме.
— Ну что ж, — произнес он. — Не исключено, что через год ты будешь вдовой.
— Еще чего! — фыркнула Милли. — Ты уже тридцать лет повторяешь одно и то же.
Нежные пастельные краски сошли с расстроенного лица Милли. Морщины между носом и ртом провисли, как веревки приспущенного флага.
— Твоя мать была такой же, — с упреком проговорила она. — Все время собиралась умереть, а дожила до девяноста двух лет.
— И все-таки она умерла, разве не так? — хмыкнул Судья.
Он выключил свет в своем чудесном доме, и они стали подниматься наверх — старая одинокая пара. Луна неспешно шагала по железной крыше дома, иногда неловко спрыгивая на подоконник к Милли. Почитав с полчаса Гегеля, Судья заснул. Долгой ночью его равномерное похрапывание действовало на Милли успокаивающе, убеждало ее в том, что еще не конец жизни, хотя в комнате Алабамы темно, Джоанна покинула дом, картонка с фрамуги в комнате Дикси давно выброшена вместе с кучей другого хлама, а единственный сын лежит на кладбище, в могиле рядом с Этелиндой и Мейсоном Кутбертом Беггсами. Милли редко думала о себе. Она просто жила от одного дня к другому; а Остин и вовсе никогда не думал об их с женой существовании, потому что жил от века к веку.
Тем не менее лишиться Алабамы было для родителей ужасно, ведь она оставалась последней, и это означало, что без нее их жизнь станет другой…
* * *Алабама лежала на кровати в номере двадцать один-ноль-девять балтиморского отеля и думала о том, что теперь, когда родители так далеко, ее жизнь станет совсем другой. Например, Дэвид Дэвид Найт Найт Найт никак не мог заставить ее выключить свет, пока она сама не снисходила до этого. И никакие силы не смогут заставить ее что-нибудь сделать, в страхе думала она, если на то не будет ее собственной воли.
А Дэвид думал о том, что ему наплевать на свет, что Алабама его жена и что он купил ей детектив на самые-самые последние деньги, о чем она пока еще не знает. Детектив был очень неплохой — о богатстве, о Монте-Карло и о любви. Еще Дэвид думал о том, что Алабама очень красивая, когда вот так лежит и читает.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Кровать была огромной, такой они не могли даже и представить. В ширину больше, чем в длину. К тому же в ней было все, что им обоим не нравилось в традиционных кроватях: блестящие черные шары и белые эмалевые стенки, как в детской колыбели, и особенно злило неаккуратно сползшее на пол с одной стороны покрывало. Дэвид перекатился на свою половину, а Алабама соскользнула на нагретое место рядом с воскресной газетой.
— Ты не мог бы еще немного потесниться?
— Господи Иису… О Господи, — простонал Дэвид.
— Что такое?
— В газете сказано, что мы знаменитые, — глуповато моргнув, проговорил он.
Алабама села в постели.
— Вот здорово… Дай посмотреть…
Дэвид торопливо зашелестел страницами «Бруклин риал эстейт» и «Уолл-стрит квотейшнс».
— Прекрасно! — воскликнул он, чуть не плача. — Прекрасно! Кстати, тут сказано, что мы в санатории из-за своей испорченности. Хотелось бы мне знать, что подумают родители, когда прочитают.
Алабама пробежала пальцами по перманентной завивке.
— Ну, они подумают, — предположила она, — что мы там уже несколько месяцев.
— Но мы же не были там.
— Мы и теперь не там. — Стремительно повернувшись, она обняла Дэвида. — Правда?
— Не знаю. А ты как думаешь?
Они засмеялись.
— Ну, не глупые ли мы? — произнесли они одновременно.
— Ужасно глупые. Разве не смешно?.. Ладно, как бы там ни было, я рада, что мы стали знаменитыми.
Сделав три быстрых шага по кровати, Алабама спрыгнула на пол. За окном серые дороги толкали коннектикутский горизонт спереди и сзади, чтобы сделать из него стратегически важный перекресток. Мир на праздных полях хранил каменный солдат народной милиции[26]. Из-под перистолистых каштанов выползала автомобильная дорога. Непобедимые сорняки слабели на жаре; выстроившиеся в шеренгу красные астры клонили головки. Гудрон разжижался на дорогах. А дом стоял себе и посмеивался в бороду из золотарника.
Лето в Новой Англии все равно что епископальная служба. Земля скромно радуется своим домотканым зеленым одежкам; лето швыряет нам свои фасоны и разрывается, протестуя против привычной нашей сдержанности, как спинка японского кимоно.
Танцуя по комнате, счастливая Алабама одевалась и, ощущая себя очень красивой, думала о том, как потратить деньги.
— Что еще пишут?
— Пишут, что мы замечательные.
— Вот видишь…
— Нет, не вижу, но полагаю, что все как-нибудь утрясется.
— И я тоже… Дэвид, наверно, это твои фрески.
— Естественно, не мы сами, мегаломанка[27].
Резвясь на утреннем солнце, искристом словно хрусталь Лалика[28], они были похожи на двух взъерошенных морских котиков.
— Ox, — вздохнула Алабама, перебирая в шкафу вещи. — Дэвид, ты только посмотри на чемодан, что ты подарил мне на Пасху.