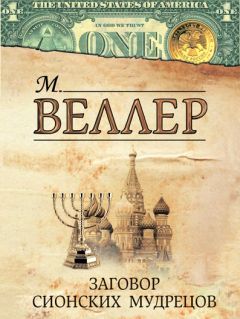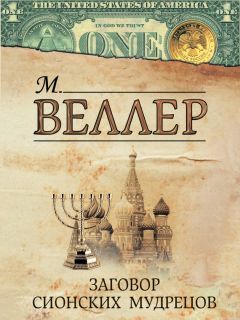Зельда Фицджеральд - Спаси меня, вальс
— Вы уже одеты! А почему тут, на крыльце?
Снаружи было холодно и туманно.
— Папа пребывает в унынии, и я отступила с поля боя.
— И в чем же вы провинились?
— Ах, у него всегда одно и то же, мол, армия имеет право на эполеты.
— Разве не прекрасно, что родительская власть гибнет так же, как и все остальное?
— Прекрасно — но я обожаю традиции.
Они стояли на скользком крыльце в море тумана на довольно большом расстоянии друг от друга, и все же Алабама могла поклясться, что прикасается к молодому человеку, таково было магнетическое притяжение двух пар глаз.
— И?..
— Песни о летней любви. Ненавижу холод.
— И?..
— Светловолосые мужчины едут в загородный клуб.
Клубный особняк с любопытством вытягивался во все стороны под дубами, похожий на сросшиеся луковицы, выпускающие по весне стрелки стеблей. Проезжая по подъездной аллее, автомобиль носом тянулся к круглой клумбе пушницы[23]. Земля повсюду была исхожена и утоптана, словно перед детским театром. Провисшая проволока вокруг теннисного корта, облупившаяся тускло-зеленая краска на летнем домике у первой метки, подтекающий кран, пропыленная веранда с приятной атмосферой, создаваемой вольно разросшимися вокруг кустами. Жаль, что сразу после войны в одном из ящиков взорвалась бутылка маисовой водки, и все сгорело дотла. Так много от любящей помечтать юности — не просто от переходного возраста, а от прожектерства и бегства неприспособленных людей в ту драматическую военную пору — было втиснуто под низкие стропила, что пламя, разрушившее святилище тоски по мирному прошлому, возможно, вспыхнуло из-за чрезмерного накала чувств. Всякий офицер, посетивший это место дважды или трижды, обязательно влюблялся, делал предложение руки и сердца и рвался создать поблизости маленькие, но в точности такие же загородные клубы.
Алабама и лейтенант задержались возле двери.
— Я хочу сделать запись о нашем первом свидании, — сказал лейтенант.
Вынув нож, он вырезал на дверной раме:
«Дэвид Найт[24], — запечатлено навеки, — Дэвид, Дэвид, Рыцарь, Рыцарь, Рыцарь, и мисс Алабама Никто».
— Какая самовлюбленность.
— Мне нравится тут. Давай посидим где-нибудь.
— Зачем? Танцы всего лишь до двенадцати.
— Доверься мне на пару минут.
— Я тебе доверяю. Поэтому мне и хочется внутрь.
Ее немного рассердили имена на двери. Уже много раз Дэвид говорил ей, что собирается стать очень знаменитым.
Танцуя с Дэвидом, она дышала запахом новых вещей. Алабама была совсем близко к нему, едва не утыкалась носом куда-то между ухом и жестким воротничком, и это походило на приобщение к изысканности отличных тканей, тонкого батиста и полотна, к роскоши в тюках. Она завидовала его внешнему равнодушию. Глядя, как он уходит с танцевального круга в обществе то одной, то другой девушки, она злилась не на то, что его привлекают другие, а на то, что он приглашает других, а не ее, в те неведомые, не опаленные жаром тайники души, где обитает только он сам.
Он проводил ее домой, и они сидели у горящего камина, безразличные ко всему вокруг. Блики пламени сверкали на его зубах и на лице, придавая ему загадочное выражение. А она смотрела, как это лицо меняется — беспрерывно и неуловимо, словно целлулоидная мишень в тире. Алабаме припомнились советы отца: как быть осмотрительной, чтобы не терять голову, однако в них не было ничего, что предостерегало бы от мужского обаяния. Стоило ей влюбиться, и ее собственные афоризмы оказались не в состоянии ей помочь.
За последние несколько лет Алабама вытянулась, стала высокой и худенькой; ее волосы посветлели, словно бы оттого, что так сильно отдалились от земли. Длинные стройные ножки она вытянула перед собой и рассматривала их, как какие-то доисторические рисунки; руки почему-то ныли и казались очень тяжелыми, словно взгляд Дэвида обременил их непосильным грузом. Алабаме было известно, что щеки у нее пылают от жаркого огня, как на июньской рекламе пивной, где хорошенькая девушка пьет земляничный молочный коктейль. Интересно, догадывается ли Дэвид, насколько она тщеславна.
— Значит, тебе нравятся блондины?
— Да.
Когда Алабаме приходилось подчинять себя чужой воле и отвечать на вопросы, у нее появлялось ощущение, будто ей что-то попало в рот и что ей надо было непременно избавиться от этого предмета, прежде чем заговорить.
Лейтенант посмотрел на себя в зеркало — светлые волосы, как лунный свет в восемнадцатом веке, и глаза, как гроты, — синий грот, зеленый грот, сталактиты и малахиты вокруг черного зрачка… как будто бы он производил смотр перед выходом и остался доволен тем, что все на месте.
У него был резко очерченный мшистый затылок, изгиб щеки напоминал о солнечном луге. А руки на ее плечах были теплыми, как подушка.
— Скажи «дорогой», — попросил он.
— Нет.
— Ты любишь меня. Так почему же «нет»?
— Я никогда ничего не говорю. Не люблю разговаривать.
— Почему?
— Это все портит. Скажи сам, что любишь меня.
— О… я люблю тебя. А ты любишь меня?
Алабама очень любила его и чувствовала, что все теснее сближается с ним, отчего Дэвид даже исказился в ее восприятии, как будто она прижалась носом к зеркалу и заглянула в собственные глаза. Линии его шеи и чеканный профиль действовали на девушку как порывы ветра, ветра, путающего все мысли. Вся ее душа вибрировала — будто истончалась и уменьшалась, словно поток жидкого стекла, который то расширяется, то вытягивается, пока не остается поблескивающий мираж. Не падая и не разбиваясь, стеклянный поток крутится и делается все более тонким. Алабама чувствовала себя такой маленькой и такой восторженной. Алабама влюбилась.
…Она влезла в уютную пещеру его уха. Внутри все было серое и призрачно-классическое — она оглядывала глубокие борозды явившегося ей мозжечка. Ни одной травинки, ни одного цветочка, взрывающих монотонность устоявшихся извилин — что-то толстое, серое и гладкое. «Надо посмотреть, что впереди», — сказала себе Алабама. Бугорчатый влажный курган возник над ее головой, и она решила обследовать его границы. Вскоре она заблудилась. Углубления и насыпи на пустоши напоминали мистический лабиринт; там не было ничего, что могло бы послужить ориентиром. Но Алабама не останавливалась и в конце концов достигла medulla oblongata[25]. Просторные извилистые коридоры водили ее кругами. В паническом страхе она бросилась бежать. И Дэвид, придя в себя из-за странной щекотки вверху позвоночника, оторвал губы от ее губ.
— Я пойду к твоему отцу, — сказал он, — и спрошу, когда мы можем пожениться.
Судья Беггс переступал с носков на пятки, тщательно взвешивая все за и против.
— Гм-м-м — ладно. Если вы в состоянии позаботиться о ней.
— В состоянии, сэр. Моя семья более или менее обеспечена — и я собираюсь работать. Этого нам хватит.
На самом деле Дэвид понимал, что денег немного — возможно, тысяч сто пятьдесят у матери и бабушки, а ведь ему хотелось жить в Нью-Йорке, да еще стать художником. Не исключено, что получить помощь от семьи не удастся. Что ж, как-нибудь устроится. Между тем помолвка состоялась. Ему необходимо было добиться руки Алабамы. Что же до денег… ему ведь когда-то виделись в грезах солдаты конфедератов, которые оборачивали кровоточащие ноги деньгами повстанцев, чтобы не обморозиться. Дэвид как будто был с ними — в тот момент, когда конфедераты поняли, что теперь не стыдно воспользоваться бесполезными банкнотами, после того как война проиграна.
Пришла весна, и сквозь белое покрывало пробились бледно-желтые нарциссы. Вьюнки лепились к тонким веточкам, а на старом дворе расцвели цветы из детства: подснежники и первоцвет, верба и ноготки. Дэвид и Алабама сбивали в кучи листья с толстых дубовых корней и рвали белые фиалки. По воскресеньям они ходили в варьете и садились в задние ряды, чтобы держаться за руки, не привлекая к себе внимания. Они выучили и пели «Моя любовь» и «Крошка», сидели в ложе на ревю Кола Портера «Хитчи-Ку» и неотрывно глядели друг на друга, пока хор пел «Как же мне сказать?». Весенние дожди растрясали тучи, превращая их в облака, и знойное лето залило Юг потом. Алабама носила розовые и белые полотняные платья, и они с Дэвидом много времени просиживали вместе под привинченными к потолку вентиляторами, которые гнали лето прочь. Ступив за широкие двери загородного клуба, они вжимались в космос, в джазовую тарабарщину, в черный жар, поднимающийся от растений в лощине, словно намереваясь оставить отпечатки своих тел для будущего населения планеты. Им нравилось плыть в лунном свете, который, будто медовым лаком, покрывал землю, и Дэвид проклинал воротнички на своей форме и всю ночь гнал машину на стрельбище, лишь бы подольше побыть после ужина с Алабамой. Они изменяли ритм вселенной, подстраивая его под себя, и завораживали друг друга громким биением своих сердец.