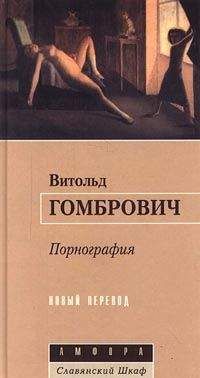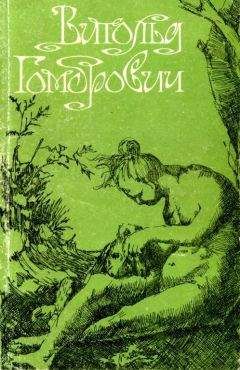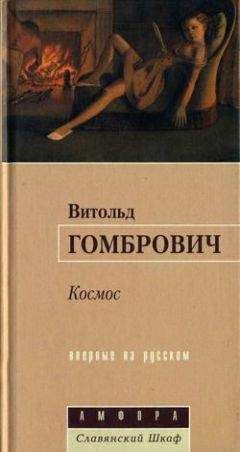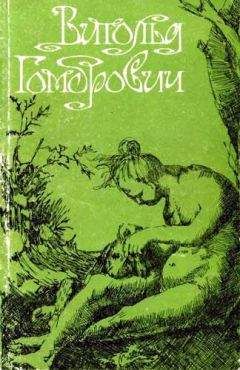Витольд Гомбрович - Дневник
Кроме нас было еще человек десять. Люди подходили к экспонатам, всматривались в них, отходили… механистичность их движений в абсолютной тишине делала их похожими на марионеток, их лица были никакими в сравнении с теми лицами, что глядели с полотен. Мне не впервой докучает лицо искусства, гасящее лица живых людей. Кто же ходит в музей? Художник какой-нибудь, чаще всего студент школы изобразительных искусств, или ученик средней школы, или женщина, не знающая, куда девать время, несколько любителей, приехавших издалека на экскурсию в город, — вот и все, больше практически никого, хотя все готовы коленопреклоненно присягнуть, что Тициан или Рембрандт — это такие чудеса, от которых просто мороз по коже.
Меня не удивляет малолюдье. Увешанные полотнами большие пустые залы до отвращения противны и способны толкнуть человека на дно отчаяния. Картины негоже располагать на голой стене одну возле другой, картина существует для того, чтобы украшать интерьер и быть радостью для тех, кто может ее увидеть. Здесь же — их скопление, количество подавляет качество; насчитываемые дюжинами, шедевры перестают быть шедеврами. Кто же может всмотреться в Мурильо, когда рядом Тьеполо требует к себе внимания, а дальше еще тридцать полотен взывают: смотри, смотри! Существует невыносимый, принижающий контраст между интенцией каждого из этих произведений искусства (а каждое из них хочет быть единственным и исключительным) и их пребыванием в этом здании. Не только живопись, искусство вообще изобилует до предела доведенными диссонансами, абсурдом, мерзостями, глупостями, которые мы выставляем за скобки нашего восприятия. Нас не шокирует пожилой тенор в роли Зигфрида, фрески, на которых практически ничего не видно, Венера с отбитым носом, преклонный возраст женщины, декламирующей молодцевато-задорные стихи.
Я все менее и менее склонен делить свою впечатлительность на отсеки и не хочу закрывать глаза на тот абсурд, который сопровождает искусство, но искусством не является. Я требую от искусства не только того, чтобы оно было искусством как таковым, но также и того, чтобы оно хорошо вписывалось в жизнь. Я не желаю принимать ни слишком смешные его святыни, ни его заклинания. Если это шедевры, которые должны преисполнить нас восхищением, то почему же наше чувство столь тревожно, столь неуверенно и блуждает как впотьмах? Прежде чем упасть на колени перед шедевром, мы пытаемся понять, точно ли это шедевр, робко спрашиваем, должен ли он нас ошеломить, тщательно разузнаём, можно ли нам проникнуться этим небесным блаженством, и только после того, как все хорошенько разузнаем, предаемся восторгу. Как совместить эту пресловутую громоподобную, неотразимую, спонтанную и несомненную силу искусства с прохладностью нашей реакции? На каждом шагу забавные промахи, ужасные ляпы, фатальные ошибки разоблачают фальшь нашего языка. Факты ежеминутно бьют наше вранье по щекам. Почему этот оригинал стоит 10 миллионов, а вон та его копия (хотя она настолько прекрасна, что вызывает абсолютно те же самые художественные впечатления) стоит только 10 тысяч? Почему перед оригиналом собирается набожная толпа, а на копию никто не обращает внимания? Та картина вызывала божественные чувства, пока считалась «произведением Леонардо», сегодня никто на нее не смотрит, а все потому, что анализ красок показал: это работа его ученика. А вот спины Гогена — шедевр, но чтобы оценить этот шедевр, надо знать технику, держать в голове всю историю живописи и иметь особый вкус, — по какому же праву им восхищаются те, кто недостаточно подготовлен? Если бы мы (говорил я своему спутнику после того, как мы вышли из музея) вместо того, чтобы анализировать краски, более точно, более внимательно исследовали реакции зрителей, мы бы выманили наружу безмерное количество фальшивок, от которых с треском развалились бы все парфеноны и сгорела бы со стыда Сикстина.
Он посмотрел на меня исподлобья, и я понял, что он переживает кризис доверия. Мои доводы звучали для него простецки не потому, что в его понимании я был не прав, а потому главным образом, что я говорил языком человека не из артистического «общества» и ни Мальро, ни Кокто, ни кто-либо другой из числа тех, с кем он считался, никогда бы таким образом не рассуждали. Это была та сфера понятий, которую они уже давно переросли; да, это была «низшая сфера», что-то ниже уровня. Нет, в таком тоне нельзя говорить об искусстве! Я знал, что пришло ему в голову: что я — поляк, то есть существо более примитивное. Однако я в то же время был автором книг, которые он считал «европейскими»… стало быть, сказанное мною было не славянским примитивом, а розыгрышем, юродством. И он ответил: «Вы все это говорите, чтобы только подразнить».
«Подразнить»! Если меня раздражает ваша тупость, то уж позвольте мне подразнить, пораздражать вас! Почему вам так не хочется принять к сведению, что утонченность не только не исключает простоты, а что они должны, что они просто обязаны идти вместе, рука об руку? Что тот, кто, усложняя себя, не может одновременно упрощать себя, теряет способность внутренне противостоять тем силам, которые он в себе разбудил и которые в итоге его уничтожат? Даже если бы в моих словах не было ничего, кроме желания подчиниться искусству, сохранив в отношении его суверенность, уже тогда следовало бы приветствовать такой подход, поскольку это нормальная, здравая политика художника. Кроме того, у меня имелись и другие, более глубокие, основания, но о них он не знал. Я бы мог ему сказать:
— Ты думаешь про меня, что я наивный, а наивный как раз ты. Ты не отдаешь себе отчета в том, что в тебе происходит, когда ты смотришь на картины. Ты считаешь, что, привлеченный красотой искусства, ты добровольно приближаешься к нему, что это общение происходит в атмосфере свободы и что в тебе спонтанно, как по мановению волшебной палочки Прекрасного, рождается наслаждение. В действительности же дело обстояло так: какая-то неведомая рука схватила тебя за шкирку, подвела к картине, бросила на колени и более сильная по сравнению с твоей воля приказала тебе поднатужиться и проникнуться соответствующим чувством. Что это за рука и что это за воля? Это рука не какого-то одного человека, воля — коллективная воля, рожденная в межчеловеческом пространстве, совершенно тебе чуждом. Поэтому ты вовсе не восхищаешься, а лишь стараешься восхищаться.
Я мог бы сказать и это, и много больше… но воздержался… Пока что приходится все держать в себе — мысли надо придать необходимый вес, развить ее и оформить в более обширную работу, но как это сделать, если мое время — это никем не уважаемое время мелкого служащего? Высказываться полунамеками? Намеками на истину, которую нельзя высказать во всей полноте? Я был обречен остаться непризнанным и фрагментарным, бессильным перед лицом абсурда, так коробившего меня… впрочем, не только меня…
Он говорит: «Я восхищен». Я же говорю: «Ты стараешься восхититься». Маленькая разница, но из этой мелкой детали выросла гора набожной лжи. Вот так в этой пролгавшейся школе и складывается стиль, причем не только художественный, но и стиль мышления и ощущения элиты, которая приходит сюда, чтобы усовершенствовать свои ощущения и приобрести уверенность формы.
Пятница
Вспоминаю свое выступление во «Фрей Мочо»[28] (потом его опубликовали в «Культуре») «Против поэтов». Когда я старался доказать этим столь удаленным от Европы аргентинцам необходимость обновления нашего подхода к рифмованной поэзии, мне сказали: «Как же так? Вы — типично элитарный писатель, — и требуете, чтобы искусство было „для всех“?»
Но я, во всяком случае, не требую популярного искусства, я не враг (а об этом тоже говорилось) искусства и не сомневаюсь в его весе и значении. Я лишь утверждаю, что оно воздействует иначе, чем мы себе это представляем. Мне досадно, что незнание этого механизма делает нас ненастоящими как раз там, где добросовестность ценится превыше всего. И досаднее всего видеть это в поляках.
Наше славянское отношение к вопросам искусства более свободное, поэтому мы меньше втянулись в искусство, чем западноевропейские народы, и можем позволить себе большую свободу движений. Я не раз объяснял это Зигмунту Грохольскому, так тяжело переживавшему свою стихийную и придавленную Парижем польскость; его метания так же тяжелы, как и драма многих польских художников, единственным девизом которых стало «догнать Европу» и которым в этой гонке мешает то, что они представляют собой иной, специфический тип европейца, что они родились в той географической точке, где Европа — не совсем Европа. Что-то в этом духе я сказал и Эйхлеру, когда мы разговаривали у Гродзицких:
— Меня удивляет, что польские художники не пытаются использовать то преимущество, которым на территории искусства является польскость. Неужели вам хочется вечно копировать Европу? Униженно преклоняться перед живописью, как французы? Писать картины серьезно? Рисовать стоя на коленях, в глубочайшем благоговении, рисовать робко? Я признаю этот тип творчества, но он ведь не в нашей природе, во всяком случае, наши традиции иные, поляки никогда не принимали слишком близко к сердцу изобразительное искусство, мы были склонны считать, что не нос существует для табакерки, а табакерка для носа, и нам больше импонирует та мысль, что «человек выше того, что создает». Перестаньте бояться собственных картин, перестаньте любить искусство, подойдите к нему по-польски, свысока, подчините его себе, и тогда в вас проявится оригинальность, перед вами откроются новые пути и вы найдете самое ценное, самое плодотворное — собственную действительность.