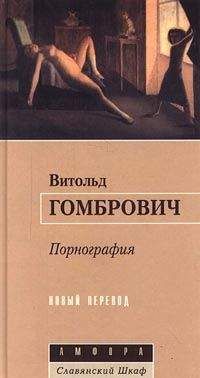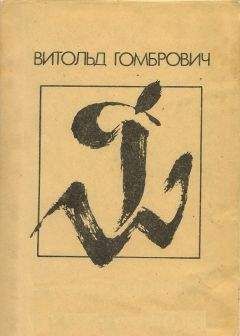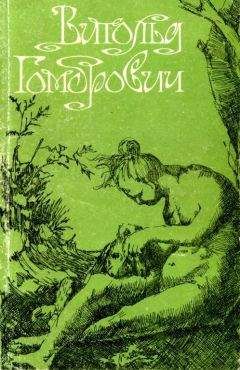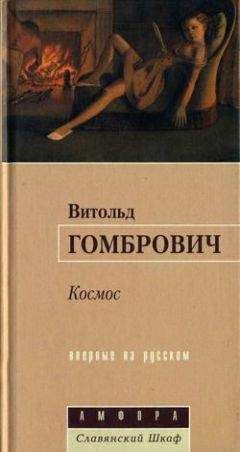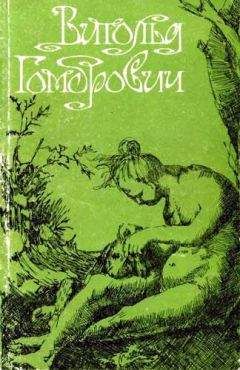Витольд Гомбрович - Дневник
Убежденному коммунисту революция представляется триумфом разума, добродетели и истины, поэтому для него в ней нет ничего такого, что отходило бы от правильной линии прогресса человечества. Зато «безбожнику», говорит Милош, революция приносит другое сознание, и выразить его можно такой сентенцией: человек с человеком может сделать все, что угодно.
В этом состоит нечто такое, что нас, восточных писателей, начинает в основных чертах отделять от Запада. (Обратите внимание, какой я осторожный. Я говорю: «в основных чертах», «начинает».) Запад упорно продолжает жить образом обособленного человека и абсолютных ценностей. Нам же зримо начинает являться формула: человек плюс человек; человек, помноженный на человека, — однако ее не следует соединять с каким бы то ни было коллективизмом. Бубер, еврейский философ, довольно неплохо определил это, сказав, что существовавшей до сих пор философии индивидуализма пришел конец и что самым большим разочарованием, какое только ожидает людей в ближайшем будущем, будет банкротство философии коллективизма, которая, рассматривая личность в качестве функции массы, отдает ее в действительности таким абстракциям, как общественный класс, государство, народ, раса; и только на трупах этих мировоззрений родится третье видение человека: человек в соединении с другим, конкретным человеком, я в связи с тобой и с ним…
Человек через человека. Человек по отношению к человеку. Человек, созидаемый человеком. Человек, усиленный человеком. Не впадаю ли я в иллюзию, когда вижу в этом спрятанную от взоров действительность? Ведь, рассматривая все те недоразумения, которые возникают теперь между нами и Западом, я всегда сталкиваюсь с этим «другим человеком», возвеличенным до категории созидающей силы. Это можно определить двадцатью разными дефинициями, выразить полутора сотнями способов, но факт остается фактом: у нас, сыновей Востока, та проблема, которой усиленно питается половина французской литературы, — проблема индивидуальной совести — начинает утекать сквозь пальцы. Леди Макбет с Достоевским становятся чем-то немыслимым… и по крайней мере половина текстов разных там мориаков представляется нам свалившейся с луны, а в голосах Камю, Жида, Валери, Элиота, Хаксли мы ощущаем ту роскошь, которая досталась нам в наследство от давно минувших дней, но которую мы не в силах воспринять. Эти различия становятся на практике так явственны, что я, например (я говорю это без тени преувеличения), вообще не в состоянии разговаривать об искусстве с художниками, поскольку Запад, до сих пор сохраняющий верность своим абсолютным ценностям, все еще верит в искусство и в то наслаждение, которое оно нам дает; по мне, так это наслаждение нам навязывается, оно рождается между нами — и там, где они видят человека, преклоняющего колена перед музыкой Баха, я вижу людей, которые заставляют друг друга встать на колени и восхищаться, наслаждаться, восторгаться. Поэтому такое видение искусства должно было отразиться на всем моем с ним общении, и я иначе слушаю концерт, иначе восхищаюсь великими мастерами, иначе оцениваю поэзию.
И так во всем. Если это ощущение еще не выявилось в нас с достаточной силой, то это только потому, что мы — рабы полученного нами в наследство языка; однако через щели формы оно все упорнее лезет наружу. Что родится, что могло бы родиться в Польше и в душах разбитых и огрубленных людей, когда однажды исчезнет и этот новый порядок, который раздавил старый, и наступит Ничто? Вот картина: почтенное высокое здание тысячелетней цивилизации рухнуло, тишина и пустота, а на развалинах — копошатся старые и ничтожные человеческие существа, которые все никак не могут очнуться. Ибо рухнула их церковь со всеми ее алтарями, росписями, витражами, статуями, перед которыми они преклоняли колени: кровля, которая их когда-то защищала, обратилась в прах, а они — во всей своей неприкрытой наготе. Где укрыться? Что любить? На кого молиться? Кого бояться? В чем искать источник вдохновения и силы? И неудивительно, что в этих условиях они увидят в себе единственную созидательную силу и единственно доступное им Божество. Вот тот путь, что ведет от обожания созданных человеком произведений к открытию человека как решающей и голой силы.
Обитатели прекрасного здания западной цивилизации должны приготовиться к нашествию бездомных с их новым пониманием человека… Впрочем, никакого нашествия не будет, я только что сменил точку зрения: откуда ему быть, если болгарин не доверяет болгарину, болгарин презирает болгарина, болгарин считает болгарина… (здесь надо употребить то знаменитое слово, которое всегда заменяется точками). Поскольку мы относимся к нашим чувствам как к чему-то несерьезному, мы никому не навязываем нашего чувствования. И было бы довольно странно, если бы новое видение человека родилось среди людей, которые пренебрегают друг другом.
Вторник
Еще одна рецензия; на этот раз в «Белом Орле»[25] — о «Транс-Атлантике» и о «Венчании». Ян Островский. Если я ничего не могу понять из этих предложений с вывернутыми членами, непричесанных, неумытых, тарабарских, что тогда поймут другие?
«Как всегда, авангардные сторожевые посты литературы натыкаются на откляченную „пупу“[26], на вещи самые непристойные».
«Судя по заявлениям Гомбровича, его проблематика основана на… открытии частичного совершенства».
«Из импортера польских литературных новинок Гомбрович во время войны преобразился в экспортера польских писательских изделий».
Или такой грамматический перл:
«Теории автора не снимают греха с готовой книги как произведения искусства».
Три столбца мусора. Островский, насколько мне известно, шеф литературного отдела в «Орле». В сущности, такая статья могла попасть в печать только с санкции того, кто ее написал.
Почему порабощенный разум господина редактора осыпает тумаками мою книгу и как может щиплет ее? Я искал ответа на этот вопрос и нашел его в следующей фразе: «Он „осквернил“ себя и эмиграцию… Пока что он получает полемическую трепку, порции обезболивающего молчания». Господин Островский счел, что полемическая трепка более действенна, хотя тем, кто не умеет говорить, следовало бы выбрать скорее обезболивающее молчание. Впрочем, молчание обо мне, господин Островский, в тех устах, которых хватает только на глупость, еще более убийственно.
Что же делать с торжественным явлением «фельетониста» типа г-на Островского? Блаженный любитель, которому нескольких слов достаточно, чтобы разбить мировоззрения, дать поучение, открыть истину, просветить, консолидировать, сформировать, разоблачить, сконструировать, запустить, сориентировать… Он оснастит свой фельетон даже Богом, но ей-богу, Бог здесь ни при чем, ему главное — вставить кому-нибудь шпильку в… Что же дает ему право так злоупотреблять именем Божьим и столькими фамилиями, которыми он нашпиговал свой фельетон, а также — злоупотреблять доверчивостью читателей? Что? Конечно — здравые идеалы. Но я, гнусный разрушитель и циник, знаю, что нет ничего проще, чем заиметь здравые идеалы. Это доступно кому угодно. Каждый, естественно, убежден, что у него есть здравые идеалы. Здравые идеалы — это поражение, болезнь, проклятие нашего нечестного века. Островский — микроб этой болезни, диагноз которой ставит нам Милош, — вот так маленькие причины вызывают страшные последствия. Не штука заиметь идеалы, штука — во имя очень высоких идеалов не заниматься мелочными фальсификациями.
[3]
Среда
На встрече у Гродзицких с молодым художником Эйхлером я заявил: не верю в живопись! (Музыкантам я говорю: не верю в музыку!) Потом я узнал от Зигмунта Грохольского, что Эйхлер интересовался, не ради ли хохмы я забрасываю публику такими парадоксами. Они даже не догадываются, сколько в этой хохме истины… истины, наверное, более истинной, чем те истины, которыми кормится их рабская «привязанность» к искусству.
Вчера я выбрался в Национальный музей изящных искусств с N. N., поддавшись его уговорам. Избыток картин утомил меня еще до того, как я приступил к их осмотру; мы переходили из зала в зал, останавливались перед отдельными картинами, после чего шли к следующим. Мой спутник, разумеется, дышал «простотой» и «естественностью» (этой вторичной естественностью, являющейся преодолением искусственности) и, в соответствии с приличествующим savoir-vivre[27], избегал всего, что могло бы восприниматься как преувеличение… я же источал апатию, переливавшуюся всеми красками отвращения, неприятия, бунта, злости, абсурда.
Кроме нас было еще человек десять. Люди подходили к экспонатам, всматривались в них, отходили… механистичность их движений в абсолютной тишине делала их похожими на марионеток, их лица были никакими в сравнении с теми лицами, что глядели с полотен. Мне не впервой докучает лицо искусства, гасящее лица живых людей. Кто же ходит в музей? Художник какой-нибудь, чаще всего студент школы изобразительных искусств, или ученик средней школы, или женщина, не знающая, куда девать время, несколько любителей, приехавших издалека на экскурсию в город, — вот и все, больше практически никого, хотя все готовы коленопреклоненно присягнуть, что Тициан или Рембрандт — это такие чудеса, от которых просто мороз по коже.