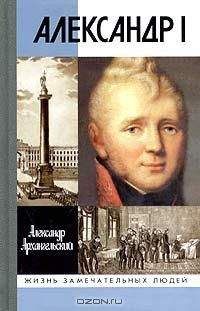Виктор Лихачев - Единственный крест
— Это ты решил — сколько мне осталось? Я же говорю, что ничего ты не понял, Дуремар.
— Не называй меня так…
— Хорошо, не буду. Озабоченный у телефона — лучше? так тебя Лиза называла.
— Ах ты… — и Львовский схватился за ружье.
— Не запутался из какого стрелять, скунс?
Все это Сидорин произносил с холодной презрительной улыбкой, словно специально провоцируя Львовского на решительные действия. Но тот растерялся. Может, он ожидал, что Асинкрит будет вести себя по-другому? Но кто теперь узнает об этом? Из-за кустов ирги серой молнией бросилась на спину Григорию Александровичу Алиса. Право слово, это трудно описать, поскольку, произошло все в одну секунду: вот Львовский поднимает ружье, вот с глухим рыком невесть откуда взявшаяся волчица прыгает ему на спину. Сидорин не слышал ни хруста костей, ни зубного скрежета, только голова убийцы родителей Лизоньки и Исаева как-то неестественно дернулась на бок.
Асинкрит удивленно посмотрел на волчицу.
— Ну, ты даешь, Алиса. Вернулась? Теперь тебе отсюда трудно будет выбраться. Впрочем, где наша не пропадала?
Потом посмотрел на бездыханное тело Львовского.
— Все, Григорий Александрович, занавес! Спектакль закончился. Обошлись без прощального монолога.
Сзади кто-то громко кашлянул. Алиса бросилась к подошедшему человеку в ноги, радостно, словно собака, виляя хвостом.
Это был Петрович.
Мужчины молча обнялись, а затем долго-долго смотрели друг на друга. Не забыл меня, Петрович?
— Кто бы спрашивал! Я-то ничего не забыл.
— Извини, но так вот случилось. Потерпи, скоро обо всем расскажу.
Затем Сидорин подошел к телу Исаева.
— Бедняга.
— Я все видел, — откликнулся Федулаев.
— А помешать не мог?
— Нет. Потом стал вот за этим следить…
— Алиса… Кто бы мог подумать?
— Я сам не ожидал. Надо же, не забыла она тебя.
— Поверишь, Петрович, — Сидорин вдруг грустно улыбнулся, — вот этот человек, Исаев, мне перед смертью стихи читал.
— Пушкина?
— Нет, Георгия Иванова.
— Тоже хороший поэт? Ты мне его не читал.
— Хочешь, сейчас прочту.
Старик кивнул — с тех пор, как они расстались с Асинкритом, никто не читал ему стихов.
…От этой картины веяло каким-то сюром. Два бездыханных тела на снегу, волчица, переводящая преданные глаза с одного говорящего на другого. Потом молодой стал читать стихи, а пожилой внимательно слушал его. Нет, они не были циниками. Просто тот, кого звали Петрович, слишком много повидал в жизни, чтобы удивляться чему-нибудь, а молодой знал, что две души сейчас предстают перед другим Судией, справедливым и беспристрастным, милосердным и суровым, каким бывает любящий отец. И нет ничего зазорного в том, чтобы проводить их стихами.
Александр Сергеевич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.
Вы мне все роднее, вы мне все дороже
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать…
— Теперь я понимаю, Асинкрит, почему ты мне вчера про Пушкина стихи читал, — сказал Петрович. В зимнем домике остались всего три человека — они с Сидориным, да Большаков, который сшибал стресс чудовищной долей алкоголя. Разъехались гости, уехали сотрудники милиции, взявшие показания у свидетелей, главным из которых был Федулаев. Его изрядно помучили вопросами, но картина в общем-то с самого начала выглядела ясной, тем более, что Львовский находился в розыске. А волчица… зверь он и в Африке зверь…
— А я понимаю, почему со мной все это случилось… Надо же, пожалел, что человеком на свет родился.
Сидорин замолчал. Молчал и старик. Где-то в другой комнате пьяно бормотал Кирюха:
— Помните, крепость волка удивительна. Ни медведь, ни лось не отличаются такой жизнеспособностью…
— О чем молчишь, Васильич? — спросил наконец Федулаев.
— О многом. О двух Лизах — я тебе о них рассказывал, об Исаеве, Львовском. О тебе. О своих снах. Помнишь, почему я от тебя уехал?
— Ты особо не объяснял. Собрался — и уехал.
— Сон мне приснился. На огромном поле идет концерт. Я среди слушателей. Какие-то ансамбли, певцы. И мне так хорошо. Слева, справа, спереди — незнакомые люди, но они мне все — братья и сестры. И мы все поем, вслед за каким-то человеком на сцене.
Донниковое поле,
Донниковая грусть,
Донниковое море,
Донниковая Русь.
А потом вдруг все исчезло. Певцы, сцена, зрители. Мне стало страшно, я не знаю, куда идти. И вдруг слышу, как тонкий детский голосок выводит:
У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички…
Иду на голос, иду, иду — и проснулся.
— Сон сбылся?
— Не пойму. По крайней мере, не до конца.
— Опять уедешь? Сон догадывать?
Сидорин засмеялся.
— Нет, просто жить.
— Человеком?
— Слава Богу, да. Но ты, отец, не думай, мы ведь не прощаемся, — будешь еще детей моих уму разуму учить.
— Так я и не отказываюсь. А тебе совет хочу дать.
— Слушаю.
— Помнишь, как ты Алису к себе приручил?
— В смысле, девушку?
— В смысле, волчицу. Бестолочь! Когда она щенком бегала — проблем не было. А когда подросла, помнишь?
— Ты что имеешь в виду?
— А то! Посоветовал я тебе: избей ее за малейшую провинность, за непослушание. Как ты со мной спорил.
— Вспомнил. Уломал ты меня…
— А ты ее!
— Она даже обмочилась.
— И стала твоя!
— Ты хочешь, чтобы я Лизу ремнем выдрал?
— Тьфу на тебя! Другого хочу: мира в вашей семье. Думаешь, почему в нынешних семьях мира нет?
— Почему?
— А потому, что семьи вроде герба российского стали — о двух головах.
— Это плохо?
— Это неправильно! С двумя сердцами жить можно, а с двумя головами — нет.
Глава сорок шестая.
Нет земли красивей.
Искренне жаль было Сидорину погибшего Исаева, не радовался он гибели Львовского, хотя прекрасно понимал, что тогда, на занесенной лесной тропе место оставалось только для одного из них. И все-таки домой Асинкрит летел, словно на крыльях. В его голове родился план: первым делом он идет в детский дом за Лизонькой, затем они оба закупают продукты и готовят шикарный ужин. Лиза придет — и ахнет. Сидорин так отчетливо представил картину грядущего ужина, что у него даже потекли слюнки.