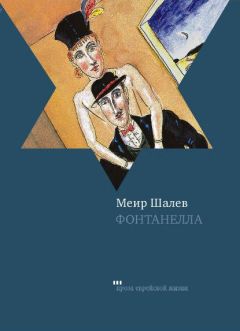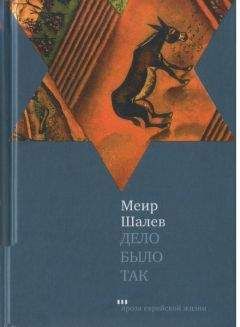Меир Шалев - Эсав
Жена Абрамсона, которая сумела разглядеть мою скорбь, познакомила меня с вдовой лет пятидесяти. Простой расчет покажет тебе, что сегодня ей уже перевалило за восемьдесят, но в моей памяти ее облик так и застыл в янтаре вожделения и грусти.
— Ты такой хороший мальчик, — повторяла она. — Ты последний подарок, который послала мне жизнь.
Я до сих пор вспоминаю очарование ее речи, уступчивость ее тела, покорность ее грудей. Однажды она сказала мне, что, если я хочу понять характер моей новой страны, мне нужно вызубрить высказывания Бедного Ричарда. Но я предпочитал Бенджамина Франклина под его настоящим именем, а не в том идельмановском занудстве, которое он позволил себе под прикрытием псевдонима, и окошком, через которое я научился понимать Америку, стала для меня его автобиография. Я по сей день сторонюсь этого бедно-ричардовского филадельфийского мышления, до сих пор не исчезнувшего в здешних местах, — того рода мышления, что хотело бы уложить в одну корзину мораль и науку, интендантские расчеты и рассуждения о сути любви, а также глубокомысленные сентенции о том, каким образом лучше всего убирать лошадиный навоз с городских улиц. К чести Бенджамина Франклина и моей подруги следует, однако, сказать, что они доказали справедливость похвал, которые причитаются женщинам ее возраста. Он — в своем эссе «О немолодой любовнице», она — на свой лад. Она — процитирую с твоего позволения самого себя — дала мне испробовать вкус Адамовых фиг, освежила меня яблоками Суламифи и даровала мне наслаждения, которые даже царица Савская не подарила Давиду. Только смерть матери вырвала меня из этого удобного и тоскливого райского сада, что постепенно разрастался вокруг меня.
ГЛАВА 61
— Случись это сегодня, ее можно было бы спасти.
Мы с Роми стоим возле памятника: теплый черный базальтовый камень, который «татары» выкорчевали из земли в долине и, вплавив в него кипящие медные буквы, приволокли на деревенское кладбище. Нет, мне жаль тебя разочаровывать, — не на телеге, запряженной женщинами.
— У меня в животе растет злое дитё, — сказала мать, обращаясь к Шену Апари.
Подкравшаяся смерть вернула ее животу забытую тяжесть беременности, но никто из близких не разглядел этого. Отец был ослеплен ненавистью. Яков — любовью. Лея — молодостью. Я был далеко. Тия Дудуч, как ты уже и сама, я полагаю, смогла понять, была женщина добрая и заслуживала всяческой жалости, но скажем прямо — не отличалась особым умом и сыну своему это качество тоже передала сполна.
Заметила одна только Шену Апари, да еще Бринкер, который тоже увидел, понял и испугался. Но с моим отъездом он лишился переводчика и толкователя своей любви. Он то и дело хватал мать за руку и что-то бормотал, извергая из себя ошметки и обломки слов, но притронуться к ее телу, спросить, показать пальцем — на это он не осмеливался.
— Ничто не могло спасти ее, Роми, — сказал я. — Будь то холера, или змеиный укус, или железнодорожная авария, с ней ничего бы не случилось, но то зло, что образовалось из ее же тела, из ее собственной плоти, даже она сама не могла победить.
— Она, и я, и ты — мы другие, тебе не кажется?
— Нет, — сказал я. — Когда-то — может быть, но сейчас уже нет.
— Я люблю тебя, дядя. Даже когда ты врешь, — сказала дочь моего брата и толкнула меня в плечо. — Давай играть, будто я детектор лжи, а ты жалкий преступник.
— Давай играть, будто ты настольная лампа, а я стиральный порошок, — ответил я, на один ослепительный миг сжав ее ладонь своею, и больше ничего не сказал ей о смерти матери. Ни ей, и ни кому другому. Даже с Яковом я никогда не говорил о последних маминых днях, хотя все мое нутро сжигала горючая смесь вины и любопытства с пугающей добавкой какого-то облегчения. Поэтому я и тебе расскажу не больше, чем уже рассказал. Не потому, что «Читатель» может и сам все понять, но потому, что это вещь в себе, не имеющая ничего общего ни с любовью князя Антона, ни с привычками доктора Бартона, ни с интригами свата Шалтиеля. Достаточно, если я скажу тебе, что за весь год, прошедший с моего отъезда и до ее смерти, я не получил от нее ни единого письма. Яков, который исправно писал мне все это время, — вот кто рассказал мне, как она рухнула во дворе. «Я услышал шум и решил было, что это рухнуло наше тутовое дерево», — так он написал. Он тоже никогда не думал, что на свете есть что-нибудь, способное убить нашу мать, тем более с такой быстротой. Всего неделя миновала, и уже пришла телеграмма. «IMA META. BO ABAITA, — было написано в ней на иврите леденящими английскими буквами, которые только усиливали ужас. — Мама умерла. Приезжай».
Все это я пишу тебе на веранде, которая заменяет мне здесь мою постоянную скамейку — ту, что на набережной на мысе Мэй. Яков и Михаэль сидят на кухне, отец лежит в своей комнате, мать — в могиле, тия Дудуч пропалывает сорняки в оросительных канавках на дворе, а Шимон перетаскивает мешки с мукой на складе. Я вытягиваю ноги, тяну время и вижу, как к нашим воротам приближается потрепанный пикап. Это Роми, которая вернулась с работы, из города, — она в два больших прыжка одолевает четыре ступеньки, что отделяют ее от меня, кричит: «Привет, дядя» — и исчезает «выпить чего-нибудь холодненького на кухне».
«Отпусти меня; ибо взошла заря»[102], — шепчет мне это мгновение. Просит меня быстрее писать, чтобы оно могло пройти.
— У нас в семье, — сказал отец позавчера своему врачу, — были люди, которые знали все секреты времени и правильный путь к старости.
И незамедлительно перечислил ему героев-родственников, которые побивали рекорды в остановке дыхания или в замедлении пульса, а также, разумеется, в почитании своих отца и матери, и не забыл наших семейных праведников, что «каждое новолуние рассыпали хлебные крошки пернатым» и практиковали суровейшую экономию в извержении семени, «потому что каждый выпрыснутый живчик, как известно, забирает почти четверть секунды жизни у своего хозяина».
Когда я сообщил Якову об этом последнем отцовском открытии, он расхохотался.
— По такому счету ты в большом минусе, — сказал он мне. — А я проживу двести лет.
Отец приучил меня к отсчету времени по часам хлебопёка, с их набуханием, брожением и сгоранием. Его небо было черным ночным небом, и солнечная стрелка по нему не ползла. Мягким и диким было это ночное время, жестоким и требующим послушания.
— Когда тесто начинает всходить, его уже нельзя оставить, — говорил он нам и объяснял, что время — не поток, и не обвал, и не пространство, а беспощадная непрерывность «упущенных возможностей».
— Все минуты правильные, — провозглашал он, — нужно только знать для чего.