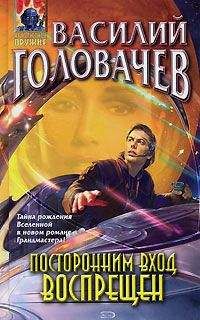Евгений Водолазкин - Похищение Европы
Следует сказать, что до встречи с братом Ионой я не имел дела ни с рыбной ловлей, ни, тем более, с червями. Когда перед первой нашей рыбалкой он откопал огромного жирного червя и благородно предложил отдать его мне, я так и не смог взять это существо в руки. Но брезгливость моя быстро прошла. Уже через несколько дней я не только легко выхватывал их из разрыхленного бурого грунта, но, по примеру Ионы, головой вперед (Иона объяснил мне, где у них голова) надевал на крючок. Чего я, в отличие от моего инструктора, так и не стал делать, было плевком на уже нанизанного червя. Иона и сам затруднялся объяснить задачи этого оплевывания, но (ввиду загадочности традиции брови его смешно поднимались) так делали в его деревне, и от этого лов не становился хуже.
— Люблю рыбалку, — говорил Иона, когда даже сквозь нависшие над нами ивы солнце начинало припекать.
Иногда он добавлял:
— Недаром имя мне при пострижении дали Иона. Иона! — Он уважительно поднимал свою огромную ладонь. — Три дня в чреве кита провел. Я думаю, немало.
Иона верил во влияние имени на судьбу, вернее, он считал, что само имя дается неслучайно, что между ним и именуемым существует таинственная изначальная связь. Он говорил, что именование при крещении в честь святого — а так оно и делается в православной традиции — это просьба к нему о покровительстве. Монашеское же имя он рассматривал не просто как просьбу, но как готовность следовать святому.
— Вот говорят, что многие жития святых между собой похожи, — рассуждал как-то Иона. Это, кстати, был единственный раз, когда на рыбалку с нами неожиданно пошел брат Никодим. — Допустим. А как же им не быть похожими, если люди похожи? Ведь тот, кто на земле еще, старается следовать своему небесному образцу. Так почему же потом, когда и тот умрет, не взять слова из уже написанного жития?
Брат Никодим, у которого не было удочки, сидел на одном из валунов, обхватив колени. Он по-прежнему молчал и смотрел на Иону с явным любопытством.
— Но есть же разница между действительностью и… — я не сразу подобрал слово, — и литературой?
— А жития — это не литература. Это и есть действительность. Такой ее хочет видеть душа.
— Браво, — коротко сказал с камня Никодим.
Жития святых были для брата Ионы не просто чтением. Они питали его ум и сердце, были для него и праздником, и повседневностью. Особо трогавшие его жизнеописания он переписывал в толстые тетради, которых у него было уже с десяток. Он переписывал их по-русски и по-церковнославянски (все зависело от того, в каком виде они к нему попадали) одинаково тщательно, своим диковинным прямостоящим письмом. Какие-то из записей он время от времени брал на рыбалку и читал их про себя, шевеля тубами. Иногда — перед этим он всегда спрашивал разрешения — он зачитывал мне что-то вслух. Собственно говоря, тетради здесь были излишни, так как все содержавшиеся в них тексты он давно уже знал наизусть. Тем не менее, пересказывая мне то или иное житие, он всегда держал на коленях одну из тетрадей. Расстаться с ними ему не позволяла любовь к письменному слову, которому, как мне казалось, он только и доверял. В этом я окончательно убедился, когда узнал, что без очков Иона вообще мало что мог разобрать. И переписывая эти тексты, и даже привязывая к леске крючок, он непременно надевал массивные пластмассовые очки, прихваченные на дужках изоляционной лентой. При чтении он не надел их ни разу, так же, как ни разу не пересказывал мне житий, не держа в руках тетради. Брат Иона напоминал мне дирижера, знающего в симфонии каждую ноту и все-таки никогда не закрывающего партитуру. Хорошее исполнение должно иметь свои условности.
Глуховатый голос Ионы хорошо подходил к пастельным тонам рассвета, по-июльски безмятежного и теплого. В это время мы уже сидели на своем обычном месте. Случалось, Иона надолго замолкал. Кое-где над озером плыл негустой туман, и если бы маленький колокол время от времени не отбивал часы, можно было бы подумать, что в мире нет больше звуков. Вода ранним утром была тиха и прозрачна особой черной прозрачностью, не замутненной ни бегущей рябью, ни пляшущими солнечными бликами. Иногда я замечал серебристые бока рыб, круживших около слившегося с глубиной червя. Поплавок начинал подрагивать и чертить неправильные эллипсы, но жест Ионы призывал к терпению.
— Водит, — говорил он шепотом, — дай ей как следует клюнуть.
Поплавок (гусиное перо, воткнутое в крашеную пробку) одним энергичным рывком уходил вниз, и все во мне замирало. Еще не видя рыбы, я чувствовал ее тугое подводное сопротивление. Иногда натянутая, резонирующая леска вдруг слабела («Подсекать надо было», — улыбался Иона), и я понимал, что рыба сорвалась. Чаще же блестящее трепещущее создание, взмыв к небу и пружиня на леске, медленно опускалось мне в руки. Брать, а тем более снимать с крючка рыбу я привык не сразу. Но даже привыкнув, я не уставал любоваться тем, как мастерски это делает Иона. Я не замечал у него ни одного лишнего движения, а порой и движения вообще. Все происходило как бы само собой: рыба деловито покидала среду обитания и по кратчайшей траектории достигала Ионы, становясь в его ладони маленькой и невесомой. Между тем рыбы, которых нам удавалось ловить, достигали внушительных размеров — особенно лещи.
— Вот он, лещик, как отцом Кириллом и заказано — говорил Иона, поймав такую рыбу.
Он осторожно снимал ее с крючка и пускал в плетеный, до половины погруженный в воду садок.
— А почему заказано? — спрашивал Иона, не ожидая ответа. — Да потому, что так делал преподобный Кирилл Белозерский, покровитель его небесный. Он говорил брату Герману, какую рыбу ему в тот или другой день ловить. Брат Герман ее и ловил. И ничем иным, как одной лишь удочкой: неводом только в престольный праздник ловили, на Успение то есть.
Он погладил потрескавшийся бамбук удочки.
— Вот и отец Кирилл мне говорит: «Поймал бы ты, брат Иона, лещей: хорошая рыба». Ну, я, как видишь, стараюсь.
Иона доставал взятую с собой тетрадь и, послюнив палец, начинал ее листать. Он редко читал подряд, выбирая обычно одно из любимых им мест.
— Вот послушай. Про авву Кирилла и князей Белевских. Послали они к нему с просьбой молить Бога о даровании им плода детородия. Брат Иона улыбался, глядя куда-то поверх своей тетради. — Только ведь авва Кирилл — он уже знал об их просьбе. Он сам сказал посланным: «Верую Богови и Пречистей его Матери, яко труд ваш не вътще будеть. Князю же вашему дасть Бог плод детородия». И дал. Всё они по его молитве получили.
Он смотрел на меня так долго и не мигая, что я поневоле опускал глаза.
— А знаешь, как он умирал? Мне эти слова всю душу переворачивают. Вот прочти вслух, я не могу.