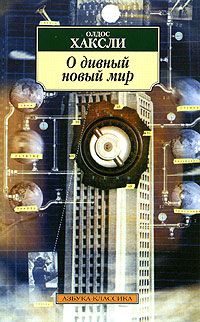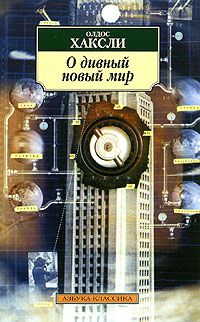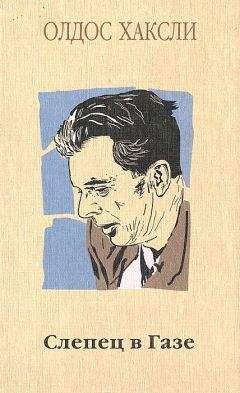Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
Со своей стороны Улисс меня утешил мыслью, что передовая статья, которую писать мне, должна быть самой главной, потому что речь шла о важнейшей проблеме общественного порядка. Он был прав, но это была статья настолько деликатная и настолько компрометирующая политику газеты, что она писалась в несколько рук на самом высоком уровне. Думаю, что это был справедливый урок для всех, но мне он показался наводящим грусть. Это был конец медового месяца между руководством вооруженных сил и либеральной прессой. Он начался восемь месяцев назад с момента взятия власти генералом Рохасом Пинульей, который разрешил вздох облегчения стране после кровавой ванны двух сменяющих друг друга правительств консерваторов, и продлился до того дня. Для меня это было также испытание огнем в моих мечтах рядового репортера.
Вскоре была опубликована фотография трупа одного безымянного мальчика, который не смогли опознать в анатомическом театре судебной медицины, и она мне показалась похожей на фотографию другого исчезнувшего мальчика, напечатанную несколькими днями раньше. Я их показал шефу судебного раздела Фелипе Гонсалесу Толедо, и тот позвонил матери первого мальчика, который все еще не был найден. Это был урок навсегда. Мать пропавшего мальчика ждала нас, Фелипе и меня, в вестибюле анатомического театра. Она мне показалась такой несчастной и ослабленной, что я горячо пожелал от всего сердца, чтобы труп не был трупом ее сына. В длинном холодном подвале под интенсивным освещением было примерно двадцать столов, расположенных в ряд, с трупами, возвышающимися подобно могильным холмам из камня под запачканными простынями. Мы прошли за спокойным сторожем три стола до предпоследнего в глубине. Из-под края простыни виднелись подошвы пары выцветших сапожек со сбитыми подковами каблуков. Женщина узнала их, стала восковой, но держалась на последнем дыхании до тех пор, пока хранитель не снял простыню широким жестом тореро. Это было тело мальчика приблизительно девяти лет с открытыми и ошеломленными глазами, на нем была все та же жалкая одежда, в которой его нашли мертвым несколько дней назад в придорожной канаве. Мать испустила вой и, закричав, рухнула на пол. Фелипе поднял ее и сдерживал шепотом утешения, между тем как я спрашивал себя, разве все это заслуживало быть ремеслом, о котором я мечтал?.. Эдуардо Саламея подтвердил мне, что нет. Также он думал, что отдел происшествий, так чаемый читателями, был очень сложной сферой, которая требовала особых свойств и выносливого сердца. Я никогда больше не помышлял о ней.
Другая реальность, далекая этой, меня вынуждала быть критиком кино. Никогда мне не приходило в голову, что я мог бы быть им, но в театре «Олимпия» дона Антонио Даконте в Аракатаке и затем в бродячей школе Альваро Сепеды я усмотрел основу, чтобы писать статьи кинематографического направления с точкой зрения более полезной, чем общепринятая до тех пор в Колумбии. Эрнесто Волкенинг, великий немецкий писатель и литературный критик, находящийся в Боготе, начиная с Мировой войны, транслировал по Национальному радио комментарии к премьерным лентам, но он ограничивался профессиональной аудиторией. Были и другие превосходные комментаторы, но непостоянные, вокруг каталонского книготорговца Луиса Висенса, находящегося в Боготе, начиная с испанской войны. Именно он создал первый клуб любителей кино в соучастии с художником Энрике Грау и критиком Эрнандо Сальседо и стараниями журналистки Глории Валенсии де Кастаньо Кастильо, которая имела удостоверение номер один. В стране было огромное множество зрителей знаменитых остросюжетных фильмов и слезных драм, но качественное кино было ограничено кругом образованных любителей, и прокатчики каждый раз подвергали себя меньшему риску с фильмами, которые держались три дня на афишах. Извлечение новых зрителей из этой безликой толпы предполагало педагогику сложную, но возможную, чтобы породить аудиторию, склонную к качественным фильмам, и помочь прокатчикам, которые желали, но не могли финансировать эти фильмы. Самым большим вредом было то, что прокатчики держали прессу под угрозой отменить киноанонсы, которые были основными доходами для газет, в качестве мести за враждебную критику. «Эль Эспектадор» был первым, кто взял на себя риск, и мне поручили задание комментировать премьеры недели больше в качестве элементарного руководства для любителей, чем как епископальный просмотр. Мера предосторожности, принятая по всеобщему согласию, была в том, чтобы я носил всегда свой пригласительный как доказательство того, что я хожу на сеанс с билетом, купленным в кассе.
Первые статьи успокоили прокатчиков, потому что комментировали образцовые фильмы французского кино. Среди них «Пуччини», пространное обобщение жизни великого музыканта; «Это — любовь», которая была хорошо рассказанной историей о певице Грейс Мур, и «Праздник Энрикеты», мирная комедия Жана Деланнуа. Предприниматели, которые встречали нас на выходе из кинотеатра, выражали свое удовлетворение нашими критическими статьями. Альваро Сепедо, напротив, разбудил меня в шесть часов утра из Барранкильи, когда узнал о моей дерзости.
— Как тебе пришло в голову разбирать фильмы без моего разрешения, черт возьми?! — крикнул он мне по телефону, умирая со смеху. — Будучи таким безмозглым, как ты, в сфере кино!
Он стал моим постоянным помощником, конечно, несмотря на то что никогда не был согласен с мыслью о том, что речь идет не о создании школы, а об ориентировании простой непросвещенной публики. Медовый месяц с предпринимателями также не был таким сладким, как мы думали вначале. Когда мы столкнулись с чистым и простым коммерческим кино, даже самые понятливые стали сетовать на жестокость наших комментариев. Эдуардо Саламея и Гильермо Кано достаточно ловко отвлекали их по телефону до конца апреля, пока один прокатчик в убранстве лидера не обвинил нас в открытом письме в том, что мы запугиваем зрителей, чтобы нанести вред интересам прокатчиков. Мне показалось, что суть проблемы состояла в том, что автор письма не знал значения слова «запугивать». Но тем не менее я почувствовал себя на грани поражения, потому что не верил в возможность того, что в растущем кризисе, в котором находилась газета, дон Габриэль Кано откажется от рекламных объявлений о кино из-за чисто эстетического удовольствия. В тот же день, когда было получено письмо, он созвал своих детей и Улисса на срочное совещание и сказал по факту, что раздел мертв и похоронен. Однако, проходя мимо моего письменного стола после собрания, дон Габриэль мне сказал, не уточняя темы, с лукавством дедушки: — Будь спокоен, тезка.
На следующий день в разделе «День за днем» появился ответ продюсеру, написанный Гильермо Кано в преднамеренно назидательном стиле, финал которого сказал все: «Не запугивается публика, ни в коем случае не наносится вред ничьим интересам при публикации в прессе кинематографической критики, серьезной и ответственной, которая понемногу равняется на критику других стран и нарушает старые и пагубные правила непомерного восхваления хорошего, похожего на плохое». Это было не единственное письмо и не единственный наш ответ. Бюрократы от кино брали нас на абордаж кислой рекламой, и мы получали противоречивые письма наших сбитых с толку читателей. Но все было бесполезно: колонка выживала до тех пор, пока критика кино не перестала быть случайной в стране и не превратилась в рутину в прессе и на радио.
Начиная с того времени, немногим меньше, чем за два года, я опубликовал семьдесят пять критических заметок, в которые надо было нагрузить часы, потраченные на просмотр фильмов. Помимо шестисот редакционных статей, одного сообщения подписанного или без подписи каждые три дня и по меньшей мере восьмидесяти репортажей между подписанных и анонимных. Литературные работы с тех пор печатались в «Магазин Доминикаль» этой же газеты, среди них различные рассказы и полная серия «Ла Сьерпе», которая прервалась в журнале «Лампара» из-за внутренних разногласий.
Это был первый благополучный период в моей жизни, но не было времени, чтобы насладиться им. Я снимал меблированную квартиру с услугами прачечной, где была всего одна спальня с туалетной комнатой, телефон и завтрак в постель — и'большое окно с бесконечной изморосью самого грустного в мире города. Я ее использовал, только чтобы спать с трех часов утра, после часа чтения, до утренних известий по радио, которые ориентировали меня в злободневности нового дня.
Я не переставал думать с определенной тревогой, что впервые у меня было постоянное и собственное место жительства, мне не хватало времени даже осознать это. Я был настолько занят, разыгрывая в лотерею мою новую жизнь, что моим единственным заметным расходом была лодка с веслами, которую каждый конец месяца я аккуратно отправлял моей тонущей семье. Только сейчас я понимаю, что я насилу находил время заниматься своей личной жизнью. Возможно, потому что во мне все еще жила мысль, внушенная карибскими матерями, о том, что жительницы Боготы отдавались без любви уроженцам побережья, только чтобы исполнить свою мечту жить у моря. Тем не менее в моей первой холостяцкой квартире в Боготе я устроил все без риска, после того как спросил привратника, разрешены ли визиты полуночных подруг, и он мне дал мудрый ответ: