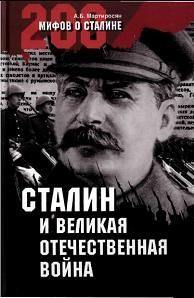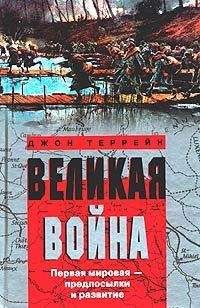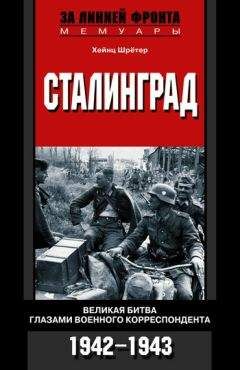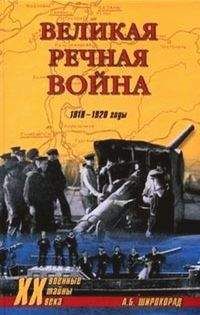Великая война - Гаталица Александар
Все мы будем бледными, как бумага, у нас будет длина и ширина, но не будет толщины, двух измерений нам будет достаточно, чтобы сесть в лодку и приказать двухмерным лодочникам: «В махаллу Эмирджан, туда, где сгорел лакокрасочный завод, а эфенди Йилдиз услышал о гибели своего лучшего подмастерья». И лодка отплывет: все будет как на старинных миниатюрах — мы, вода, лодки с лодочниками, махалла Эмирджан, деревянные дома, мечети с минаретами, вся Турция. И все наконец будут счастливы…
— Клянусь вам, инвалиды как любовники будут лучше мужиков с двумя руками, но это, конечно, если у них остался нетронутым причиндал в сраных штанах… Я знаю, что говорю. Сначала я переспала с кучей мертвецов. Да, мне не стыдно признаться: я надевала башмаки убитых солдат. Называла их: башмаки Жиль, башмаки Жан, башмаки Жак, Жозеф, Жакоб, Жо… Затем я каталась по полу, представляла, как они обнимают меня своими прозрачными паутинообразными руками. Позже я решила мертвых заменить живыми: я разделась и пошла по жизни нагишом. Сначала я нашла художника Кислинга. Два года я не обнимала осязаемое мужское тело, поэтому мне было хорошо. Потом я нашла японца Фуджиту. Как же он меня крутил… Мои ноги летали по всем четырем углам комнаты. Но если подумать об этих людях сейчас, то я понимаю, что они оба были трусами. Где они были, когда другие сидели в окопах? Где они были, когда наши позиции травили газом? Спали с Кики с Монпарнаса! С меня хватит художников, которым «жирная трусость» милее «худого героизма». Я брошу Ман Рэя, так же как он бросил меня и вернулся в Нью-Йорк. Я найду инвалида войны!
В новое время мы все обратимся к любви, и того, кто станет в ней лучшим, изберут президентом Франции, и не важно при этом, есть у него две руки и две ноги или нет. Вот сейчас президент этот… ну этот, дядюшка Пуанкаре, похожий на эльзасского пивовара. Как по мне, он больше похож на немца, чем на француза. Даю ему еще, скажем, пару лет максимум как президенту, после чего его заменит лучший любовник Парижа, человек без обеих рук, настоящий символ Великой войны и всего, что идет за ней.
— Проще говоря, я думаю так же, как другие, и стыдиться мне нечего. Я воевал как настоящий Кокто: роскошно, да еще и выжил. Разве мало? Конечно, и у меня, так сказать, во время войны планка снизилась. 1914 год был лучше 1915-го, а 1915 год стал золотым по сравнению с 1916-м. Каждый день 1916 года был похож на лепесток розы по сравнению с любым днем 1917-го, а в 1918-м все пошло к черту. Взять хотя бы мой первый отъезд из Парижа в 1914 году. Я вернулся домой как настоящий военный модник: отутюженная и надушенная форма, кепи с красным верхом. Всем в «Ротонде» и «Доме» я хотел показать, как красиво я воевал. Пикассо тогда я не нашел. Да и черт с ним. Мы все его обожали, а он вытирал о нас ноги. Ах да, вы спросили о новом мире после Великой войны. Новый мир будет туалетной бумагой старого… Каждый, кто чего-то стоил до Великой войны, подотрется новым миром. Брат брату шею свернет ради прибыльной должности. Эта неряха Кики, видимо, сошла с ума, если думает, что Пуанкаре сменит президент-инвалид с огромным членом. Эта мысль могла быть зачата только в ее мозге нимфоманки. Новый мир будет… Да кого волнует новый мир! Я роскошно воевал, роскошно отдохну. Мне за все заплатят, даже нос бесплатно не вытру. Я не идиот, чтобы представлять лучший мир, пока другие вокруг богатеют и толстеют. Может, я и не наберу ни грамма, что бы ни ел, но поэтому-то я и найду такой кошелек, который еще как будет знать, как растолстеть.
— Не знаю, почему от меня кто-то ждет, что скажу, каким будет новый мир. Я Освальд Райнер. От имени британской короны я убил Распутина, и, наверное, вы понимаете, что я намного лучше владею оружием, нежели словом. Поэтому я заряжу пистолет и дошлю пулю в ствол. Вот как, уважаемые господа, будет выглядеть ваш новый мир после этой Великой войны.
— И от меня не ждите многого об этом новом мире. Я простая цыганка, гадалка из России. Я моталась по поездам во время большевистской революции 1917 года и врала некоторым сбившимся с пути революционерам об их великом будущем. А почему, хотите узнать? Хотите, а я не скажу. Что-то же должно остаться тайной, которую увезут с собой караваны.
— Я доктор Шандор Ференци, и я надеюсь, что эта эпоха, наихудшая и наилучшая для всякого психоаналитика, как можно скорее закончится. Не знаю, что бы на все это сказал коллега доктор Ауфшнайтер.
До сих его вспоминаю: он в дорогу был легок на подъем, и всякий раз, навещая своих коллег, заболевал чем-то тотемным. Теперь у всех вокруг, да, думаю, и у меня тоже, одна или больше таких болезней в летальной фазе. Весь мир превратился в больницу; весь мир — в психиатрическую клинику. Как пчела не любит пыльцы на каждом цветке, так и я не знаю, почему мне и дальше должно нравиться то, что по улицам бродят все мои пациенты по списку. Венгрию — признаться, побежденную и униженную Венгрию — мне сложно вам описать. Вот лишь одна зарисовка из Печа, города моей радости и сладости. В ней главную роль играет мальчишка-пианист. Бела Кун, как известно, только что основал Kommunisták Magyarországi Pártja (Венгерскую коммунистическую партию), и в нашем городке, выросшем на глинистой почве, в нее вступили серьезные усатые дядьки. Особенно взбудораженной оказалась еврейская община. Она разделилась пополам: одни были за Куна, другие — за республику и ее первого президента Михая Каройи. Маленький пианист из Печа Андор Прагер всегда слушался старших. Чтобы добраться до музыкальной школы, Анди должен был идти дорогой «красных» мимо ангара рабочих фарфоровой мануфактуры Жолнаи. На фабричном дворе напряженная обстановка и каждый день меняются рабочие-контролеры производства. Однажды мой Анди, идя на урок фортепиано, у ворот Жолнаи увидел на страже революционеров-социалистов, а среди них узнал дядю Исаака, дядю Хаима и дядю Давида, которых частенько видывал в синагоге. Они ему крикнули: «Анди, мы все на тебя рассчитываем. Когда вернешься, посмотрим, что тебе учитель написал!» Анди пришел в школу и рассказал учителю фортепиано об очень серьезных дядях-социалистах с усами как плети. После урока учитель написал: «Товарищ Андор добился невероятного прогресса. Продемонстрировал отличную техническую и музыкальную зрелость…» Вернулся Анди к дяде Хаиму, дяде Исааку и дяде Давиду, и они, завидев уже одно только «Товарищ Андор», многозначительно закивали головами. На следующий день маленький пианист снова проходил мимо фабричного двора, но это был такой день, когда превосходство на Жолнаи перешло к республиканцам. Перед входом во двор он увидел новые лица. И среди них узнал дядю Иакова, дядю Мишку и дядю Ноэля, соседей, которых тоже частенько встречал в синагоге. Они закричали ему: «Анди, мы все в тебя верим! Когда вернешься, тогда-то и посмотрим, что написал тебе учитель». Анди на этот раз рассказал учителю о важных дядях-республиканцах, чьи волосы спадают на плечи, как змеи, поэтому учитель после урока без колебаний написал: «Господин Андор со вчерашнего дня значительно продвинулся вперед. Я думаю, что его легкий ритмичный танец на клавишах еще прибавит в скорости…» Такова моя Венгрия, республика, похожая на жареного цыпленка, обглоданные кости которого еще прочно держатся, но уже жадно сожрано и белое, и красное мясо…
— Мы думаем, что этот мир вывихнут из сустава и что с окончанием Великой войны реальность потеряла свое постыдное равновесие. Парапсихология в новом мире заменит психологию; оккультизм займет место физики; паранойя затмит здравый разум, а семья уступит место ордам и сектам. Но нам все равно. Работы для нас и так будет выше крыши. К тому же некоторые мюнхенские теософы поругаются с лейпцигскими, мы зазнаемся, как те покойные довоенные немецкие оперные певцы. Как бы там ни было, мы все вместе будем работать над искажением земного шара и разрушением той толики разума, которая останется в головах людей после этой войны. Ура! Ад — это наше настоящее, поэтому наше будущее в нем мы принимаем абсолютно равнодушно. Ваши: Франц Хартман («Грязный Франц», ложно объявленный мертвым) и его магистр Хуго Форлат из Мюнхена, а вместе с ними и Карл Брандлер-Прахт из кабинета, устроенного в сатанинском погребе Фауста в Лейпциге.