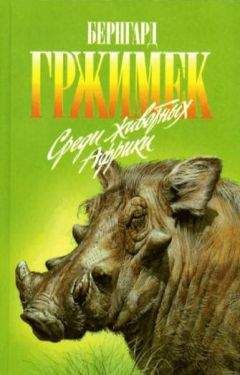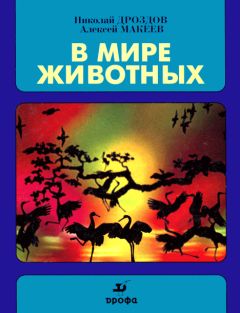Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
— Ты станешь мне возражать, я знаю. Слишком много сил ты отдал энергетике, технике. Ты сам, своими руками строил эту цивилизацию. Ты к ней привязан. Конечно, в ней много мощи, красоты. Но в ней так мало человеческого! Она словно не для человека, а для чего-то другого. Ее мерилом служит что угодно, но только не человек! Не его боль, не его тревога, не его любовь. Новая идея, о которой мы с тобой говорили, — если ей суждено родиться, должна быть идея человеческая. Человек должен встать в центр всего! Не кумир, не вождь, не герой, а самый обычный, смертный, с краткой, данной ему в проживание жизнью! Либо цивилизация — за человека, и тогда она нужна и желанна, либо — против него, и тогда зачем же она? Ты меня понимаешь, отец?..
Вертолет, грузивший пшеницу, принял на борт голодающих. Готовился их нести прочь от сгоревших земель, в южную, не тронутую засухой зону. Там оставалась в реках вода, шли дожди, зеленели леса. Туда, на новые земли, от голодной смерти их уносил вертолет.
Второй пилот, стоя у трапа, подсаживал длинноногих чернокожих людей, шатких, нетвердо ступавших. Пыльные, драные шкуры, голые худые тела, тусклые пустые глаза. То был библейский, наказанный богом народ, гонимый с насиженных мест, понукаемый огненным, из неба протянутым посохом. Несколько женщин с младенцами вошли в вертолет, опустились на клепаный пол, положили детей. И один ребенок, хрупкий, иссохший, лежал на красном тряпье, как ворох тоненьких веток, догоравших в костре.
Он вел машину на бреющем. Падал в голубые каньоны. Взмывал вдоль гранитных круч. Торопился, чувствуя, как сзади на красном тряпье умирает ребенок. Эта смерть казалась ему воплощением вселенских несчастий, его собственной смертью, смертью его нерожденных детей. Он сжимал штурвал, следил за приборами, слушал рокот винта. Молил, чтоб ребенок не умер, чтоб смерть его пощадила, чтобы топливо, металл, электричество, скоростная машина вырвали ребенка у смерти.
Прилетели в Аддис-Абебу, сели на бетонную полосу. Винты затихли. Открылась дверь. Оглушенные люди тянулись на свет. Ребенок был мертв. Недвижно, плоско лежал в тряпье. Мать на него не глядела. Теребила красную тряпочку.
Дронов слушал сына. Пытался угадать, какие картины и зрелища толпились в его душе. Что значит сыновний протест, неявный, скрываемый, направленный против него. Чем провинился перед Алешей. Вспоминал тот день, казавшийся бесконечным, бездонным, длящимся в продолжении жизни.
Они взбирались с сыном на гору, травяную, скользкую. Хватались за легкие блестящие стебли, за колеблемые ветром цветы. Сын срывался и падал. Нежно, сильно он подхватывал его, увлекал к вершине. И когда одолели склон, поднялись на покатый, нагретый солнцем зеленый купол горы, дунуло ветром и открылись пространства и дали: озера, реки, леса, деревни в разноцветных полях, белые шатры колоколен — вся любимая родная земля. И казалось, оба они, сын и отец, подхвачены теплым ветром, летят обнявшись, и косцы в лугах опустили мокрые косы, смотрят, как они пролетают.
— Кстати, у тебя сохранились мои афганские письма? Хотел бы их перечитать, если можно…
Он зашагал быстрее, обгоняя отца, оставляя его одного на белой дороге. Словно стремился оказаться один. Не желал брать с собою туда, где ему, отцу, не место. Где место ему, сыну.
Вертолетная пара шла над горами, над вечерними озаренными кручами. Складки и склоны были в тени, в слепой синеватой тьме, окаймленной горячим светом. В этой тени, невидимые, прятались караваны с оружием. Погонщики, услышав шум вертолетов, загнали верблюдов в тень, уложили животных, и летчики из кабин напрасно напрягали глаза. Слепые синеватые пятна укрывали караван. Невидимые стволы пулеметов следили за кружением машин.
В передней машине командир эскадрильи, держа высоту, не рискуя снижаться, закладывал круг за кругом. Облетал ущелья, опасаясь огня пулеметчиков. Надеялся по вспышке, по тусклому отсвету стали засечь караван. И тогда — заход на атаку. С грохотом, ревом снижаться, посылая к земле красные чадные взрывы, работая двумя вертолетами, долбя и дырявя скалы.
Он, Алексей, ведомый, с превышением высоты повторял маневр комэска. Пролетал над озаренной вершиной, над красной горой, чей солнечный склон был в обвалах и осыпях, в пересохших ветвистых ручьях. Внизу, у подножия, как слабый отпечаток подошвы, прилепился кишлак, серые лепные строения. Тут же крохотное зеленое поле, малое кудрявое дерево, будто на эти камни из чьих-то высоких ладоней упала капля жизни.
Вел машину, переговариваясь по рации с командиром. Ждал, когда командир отдаст приказ поворачивать, возвращаться домой. Думал о комэске с любовью. Дорожил его дружбой, возможностью вместе летать. Учился у командира атакам, разведке, полетам в туманных ущельях. Вечерами в душной, с распахнутыми окнами комнатенке слушал командирские песни, игру на гитаре. Рассматривал фотографии его жены и детей. Милая круглолицая женщина, два серьезных, обнимавших ее малыша.
Он пролетал над вершиной, видя, как складки горы укутывают, прячут кишлак и бездонная черно-синяя тьма поглощает мир. Вертолет командира над этой тьмой блестел винтами, поворачивался озаренным пятнистым бортом. Были видны звезда, бортовой номер; подвеска с ракетами, легкая, оседающая гарь мотора.
Он ждал, что сейчас услышит приказ возвращаться. Набрав высоту, они мерно потянутся над цепью вечерних гор. Опустятся на аэродроме, окруженном вершинами, на которых последнее солнце зажигает высокие, медленно гаснущие самоцветы. Покинут остывающие, с обвислыми лопастями вертолеты. Смоют пыль и пот, стоя под железным баком, под тепловатой арычной водой. После ужина, когда спадет жара и быстро. наступит южная ночь с туманными звездами, пиликаньем невидимой рации, с шелестами колючей земли, с одиноким выстрелом, — они сойдутся с командиром в его комнатушке, послушают кассетник, почитают друг другу письма, а потом незаметно, слово за слово, втянутся в свой непрерывный, из вечера в вечер, спор — об этой проклятой афганской войне, об оставленном, трудно живущем отечестве, о мировых катастрофах, об их военной, связанной с катастрофами долей.
Так думал он, пролетая над горой, видя, как медленно выпутывается из складок кишлак и вертолет командира светлеет на фоне непрозрачной, окутавшей гору тьмы.
Он увидел, как в тени слабо чиркнула вспышка. Маленький красный уголь зажегся, закружился, мгновенной жалящей точкой вознесся сквозь тьму, ударил в вертолет командира. Прозрачный на солнце, беззвучный шар света окружил вертолет. Лопнул — и машина, колыхнувшись, потеряв управление, стала скользить и проваливаться, выпуская два черных дымных хвоста. Две черные лыжни, по которым съезжала, скользила машина, погружалась в черную тень. И оттуда, из тени, потянулись красные трассы, огненные спицы. Забили пулеметы душманов.
Вертолет командира падал, охваченный чадной гарью, роняя жидкий огонь, и он, ведомый, понимал, что случилась беда, та самая, возможная в любую минуту, ожидаемая, отпускавшая их каждый раз невредимыми, она наконец случилась. Вертолет командира сбит, командир погибает. С криком «Коля, держись!» он направил машину в пике.
Он догнал вертолет, горевший, как стог. Машина горела, сыпала летучие ворохи, черная, длиннохвостая, в рыжем растрепанном пламени. Они падали в тень, в глубокую пропасть. Следя за падающей близкой машиной, он успевал различать высокую, оставшуюся наверху, с мазками солнца вершину, каменистый склон с вереницей верблюдов, наездников в белых повязках, бьющие в него неточные пулеметные трассы. Направлял машину в ущелье по огненной, оставляемой командиром спирали. Кричал в эфир сквозь стекла кабины, в тучу огня и дыма: «Коля, Коля, держись!»
И в ответ в шлемофоне сквозь хрипы и клекоты раздалось: «Прощайте, мужики!»
Вертолет командира упал, грохнул взрывом Разлетелся на лоскутья огня. В каждом клочке огня чернел обломок. Алексей посадил свою машину рядом, на гравий, у зеленой, бегущей по ущелью реки. Борттехник выставил в дверь пулемет, крутил на турели, садил ввысь по склону. А он и второй пилот подтаскивали убитых товарищей.
Улетали, оставляя в ущелье догоравший вертолет, неся в блистере, в хвосте, в лопастях пробоины. На полу, на обшивке, лежали три трупа. Комбинезон командира продолжал чадить и дымиться.
— Ты сохранил мои афганские письма? Мне хотелось бы их посмотреть…
Дронов кивал, обещал достать письма. Шел рядом с сыном, чуть касаясь его плечом, чувствуя его крепкие мускулы. Хотел продлить, удержать эти случайные прикосновения. Вспоминал тот единственный день, когда были они неразлучны.
Сидели на высокой горе среди легкого посвиста трав. Огромный валун, бог весть как попавший на гору, розовел в стороне. На камне молча наблюдала за ними сизая птица. Они постелили на теплую землю чистый платок, выложили нехитрую снедь. Их трапеза на горе. Ломали краюху хлеба, передавали друг другу. Сыпали крупную соль. Шелушили сваренные яйца. Резали на ломти красные сочные помидоры. Отвинчивали фляжку с молоком. И отец, отпивая молоко, передавал фляжку сыну. Видел, как у него с губ, из-под горлышка фляжки стекает белая млечная струйка.