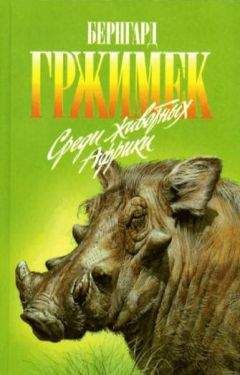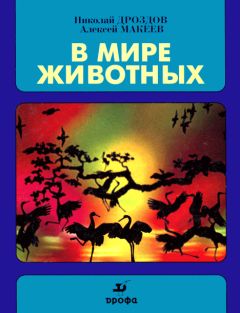Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
Дронов мало думал о сыне, пока он не вырос. Отцовство его дремало. В краткие наезды в Москву он не знал, как вести себя с Алешей. Таскал его суматошно по каким-то зрелищам — в цирк, в зоопарк, в театр. Утомлял его и сам утомлялся, вызывая нарекания деда и бабки. С облегчением расставался с Москвой, с сыном, с не любившей его родней жены. Мчался обратно на стройку, где, одинокий, свободный, рыл котлованы, ставил на бетонные основания реакторы, приходил ночевать в холостяцкое, неприбранное жилище.
Не сразу, постепенно, с годами, началась и усилилась между ним и женой борьба — борьба за сына. Та старалась увлечь сына в свои пристрастья — в литературу, искусство, историю. Водила по музеям, по окрестным подмосковным усадьбам, брала в экспедиции, учила народным песням. Он же, отец, быть может, из чувства ревности, из чувства противоречия приближал сына к себе, нагружал его своим знанием и опытом. Брал на стройки. Сажал в кабины «БелАЗов», на двуглавые, похожие на драконов трубовозы. Проносил на вертолете над бескрайней просекой, наполненной блестящей тончайшей сталью. Вводил в реакторные и турбинные залы. Объяснял устройство громадных, из драгоценных сияющих сплавов машин. Он и жена взращивали в сыне две разные сущности, где одна отрицала другую. И эта борьба за сына соединяла их, не давала расстаться, превращала их жизнь в сложный, из противоборства и согласия, союз.
Позднее сын угадал свою роль. Остро пережил ее своим молодым расщепленным сознанием. Стал удерживать их от разрыва, соединял, скреплял, позволял отцу и матери продолжить мучительную для него борьбу. Любил их обоих, приносил себя в жертву.
Конечно же сын, Алеша, — вот кто помешал им расстаться.
Дронов думал об этом, прислушиваясь к тишине за стеной, где спал под тулупом сын. Вспоминал его белокурого, с локонами, в детской кроватке, с пластмассовой цветной погремушкой. И другого — в форме военного летчика, смуглого, худого, усталого, с легким тиком на обгорелой скуле.
Должно быть, и жена вслед за ним оглянулась назад, вспоминая себя и сына. В ней поднялась вся ее горечь, все ее страхи и боли. Меняясь в лице, обращая его против мужа, она стала жалобно и зло выговаривать:
— Не буду, не буду тебе повторять, что ты загубил мою жизнь, занял в ней место, которое мог бы занять другой! Не буду повторять, что прожила всю жизнь соломенной вдовой, без мужа, без домашнего очага, без уверенности в завтрашнем дне. Не стану тебя упрекать за то, что никогда не хотел меня понять, мои привязанности, мои идеалы, моих друзей — глумился над ними, смеялся! Я это тебе простила. Но я не простила тебе, слышишь, не простила и никогда не прощу сына! Не прощу тебе Алешу! Ты, ты его погубил! Ты его искалечил. Из своей гордыни, из своего своеволия, потакая своим капризам, своему сентиментальному мифу, будто бы твой отец, пилот, был бы счастлив видеть пилотом внука! Ты, ты направил Алешу в училище, внушил ему, наивному, доверчивому, свой дурацкий, вредный, оболванивающий тезис… «Вертолет есть средство познания современного мира!» «Вертолет — инструмент познания современной цивилизации!» Ты кинул его в ужас, в смерть! Неужели ни разу не пожалел, не раскаялся? Когда Алеша прилетел из Эфиопии и в его глазах, милых, светлых, добрых, был ужас, темный кошмар от того, чего он там навидался, неужели ты не раскаивался? Или когда ездили в госпиталь и он после Афганистана лежал в бинтах, обгорелый, и кругом эти молодые, израненные, искалеченные люди, ты тоже не раскаивался?.. Или после Чернобыля, когда в его лице не было ни кровинки, и я молила бога, чтобы анализы показали улучшение крови, и дело не дошло до этих страшных операций, — ты был спокоен? Опять затолкнешь его в вертолет, в инструмент познания мира? Какого, какого мира? Зачем такой мир, если его нужно познавать через смерть? Ты страшный человек! Вы страшные люди! Сначала создаете чернобыли, а потом посылаете туда своих сыновей. Сначала создаете афганистаны, а потом толкаете туда своих сыновей. Ведь это чудовищно. Это грех непростимый! Вы — детоубийцы! Ненавижу тебя!..
Она ненавидела, блестела глазами. Голос ее срывался на клекот. На горле двигалась и пульсировала синяя жила. И он, видя это ненавидящее лицо, испытал такую боль, такую слабость и муку, признание всех своих вин перед ней, перед отцом, перед сыном — такое непонимание того, из чего сложилась его жизнь, прожитая почти в одночасье, уложившаяся в миг единый, и скоро ему умирать и со всем прощаться, и что он им скажет, прощаясь?
Он почувствовал, что теряет сознание. В обмороке, куда его опрокидывало, перевертывало, вовлекало в стремительную траекторию, вдруг возник самолет, красный, в вечернем солнце, в низком облачном небе, с длинной черной косой чадного дыма.
Должно быть, она увидала, почувствовала его обморок. Он очнулся от ее вскрика:
— Валя, что с тобой, Валя? Прости! — Она кинулась к нему. Обнимала, целовала, гладила его плечи, повторяла: — Прости, прости! Это — затмение. Уедем с нами! Брось эту ужасную стройку! Поедем в Москву. Поживем все вместе — ты, я, Алеша! В кои веки судьба улыбается нам. Мы скоро с тобой старики… Еще живы, Алеша наш с нами. Ну поедем, умоляю тебя!
Он обнимал ее. Чувствовал, как на его руки бегут ее быстрые слезы. Стоял, сжав плотно веки. Тот московский переулок в снегу, заснеженная старая церковь, застывший в облупленной капители голубь. И мука его не кончалась.
— Мама, папа, вы что? — услышал он. — О чем это вы так громко? — Из соседней комнаты вышел сын, отдохнувший, улыбающийся, держа на плечах тулуп. — О чем спорите? Может, я помогу?
— Ни о чем, сынок. Какие уж наши споры! Иди к нам. Постоим, помолчим.
Они стояли втроем. Сын обнимал их. Молчали. И было им всем каждому по-своему больно и хорошо.
Глава двадцать шестая
Дронов и сын Алеша гуляли по белой лесной дороге, уводившей от коттеджей в зеленый ельник, в синие долгие тени, в полосы желтого солнца. Медленно удалялись от дома. Дронов слушал сына, его энергичное молодое витийство. Искоса мельком взглядывал на близкое сыновье лицо, на статное, сильное тело. Испытывал нежность и робость. Неужели это он, Алеша, его милый мальчик, с кем когда-то, в далекий, им обоим подаренный день ночевали в деревенской избе, под лоскутным крестьянским одеялом, и он, отец, фантазировал, складывал какую-то сказку, про какой-то прилетевший из неба корабль, про каких-то жестоких небесных воителей, решивших покорить всю землю, и сын забывал дышать от восхищения и страха, прижимался к нему своим маленьким жарким телом. Неужели это он, Алеша, сильный, энергичный мужчина, познавший войну, видевший смерть и страдания, и есть тот худенький, хрупкий мальчик, доверчивый и наивный, тихо смеявшийся под лоскутным деревенским одеялом?
— Ты был прав, отец, прав абсолютно! Действительно, как ты говорил: вертолет — инструмент познания мира. Я до конца не понимал тебя прежде. А теперь понимаю. И благодарен, поверь! Благодарен за то, что направил меня в вертолетчики. Мать хотела меня сделать историком, посадить за чтение летописей. Но историком-то по-настоящему сделал меня ты. Втолкнул меня в современную историю! Цивилизация — это загадка, которую нельзя понять в кабинетах, нельзя понять в библиотеках. Ты посадил меня в вертолет, и я, что бы там ни было, тебе благодарен!..
Дронов кивал, слабо улыбался. Слушал философствования сына. Вспоминал тот день, когда ночевали в избе.
Утром проснулись, пошли обследовать старый большой сарай, наполненный сухим серебристым скарбом. В дырявую дранку косо, под разными углами летели лучи, бесшумно ударялись о ветхие предметы, расплющивались дрожащими мягкими пятнами света. Растресканная деревянная ступа, долбленая, из тяжелого корня, с остатками пшеничной пыли, слабым запахом истертых зерен. Сын боязливо трогал ее, ему мерещилась ведьма; и обшарпанная, из березовых прутьев метла, и избитый дубовый пестик — орудия колдовского полета — стояли тут же. Поломанный ткацкий стан, смугло-коричневый, с обрывками прелых нитей, пропустивший сквозь себя столько полотен, разноцветных половиков, хранивший бессчетные прикосновения исчезнувших женских рук. Грабли, вилы и косы на заржавелых гвоздях — сын робко их трогал, они чуть слышно звенели, будто в них отзывались старинные косцы, давнишние сенокосы, душистые, зеленые копны. Лошадиная дуга с бубенцом, расписанная цветами и птицами, — сын протягивал руки к дуге, будто гладил ушастую голову, и мерцали, туманились лошадиные большие глаза, дышали мягкие губы, слабо, сладко звенел бубенец. Здесь были берестяные торбы, изношенные драные лапти, еловые суковатые посохи — все, что осталось от тех, кто исходил окрестные земли к святым местам, на торговые ярмарки, на церковные богомолья. Здесь, в старом сарае, он впервые на мгновение понял жену, ее увлечение древностью, ее мистическую любовь к старине. Под дырявой крышей собралось и укрылось минувшее время: крестьянские свадьбы, престольные праздники, солдатские проводы. И когда осторожно качнули детскую зыбку, линялую роспись на поломанных шатких дощечках, из-под зыбки выбежал еж, прошуршал, оглядел блестящими черными глазками, как маленький домовой, рассерженный их появлением.