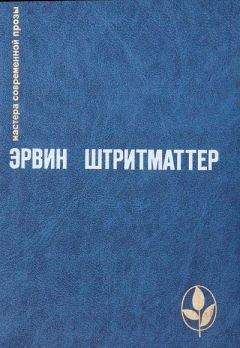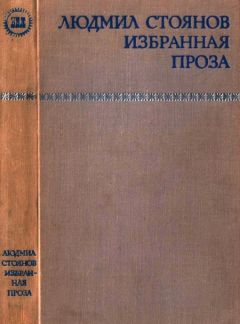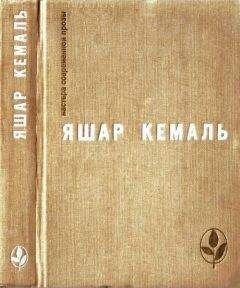Факир Байкурт - Избранное
— Валлахи, у нас ничего нет, эфенди. Приехали мы сюда аж из-под самого Йозгата, прорехи свои домашние залатать думали. И кое-кому сунуть, чтобы в Германию нас пустили. Откуда у нас деньгам быть? Целый месяц по этой чертовой Анкаре шляемся, во все двери стучимся. Жилья своего нет, у земляков ночуем. Нет у нас ничего, валлахи-билляхи!
А он как пальнет нам под ноги. Так песком и брызнуло, прямо в лицо нам. Я чуть в штаны не наложил со страху. А Бекташ ну умолять:
— Пощади нас, эфенди. Верным твоим псом буду. Хочешь, задницу тебе лизать буду. У меня всего-то и есть тридцать лир. Если я их отдам, как же я жить буду в этой Анкаре распроклятой? Ведь она что море, а я плавать не умею, утону, пузыри пущу. Не отбирай у меня эти тридцать лир. Верным твоим псом буду.
— Хватит тебе хныкать. Еще слово скажешь, я тебе всажу пулю в лоб. Здесь Анкара. Дураков нет… Ишь хитрецы какие — хотели двойную плату получить. На чужой спине в рай въехать.
Я сплюнул.
— Ну что ты раскипятился, эфенди-ага? Давай поговорим спокойно.
А он — бабах!
— У меня, — говорит, — все карманы патронами набиты. Обоих прикончу, как псов бешеных. Хватит болтать, выкладывайте деньги.
Захоти только он выслушать, я бы ему сказал: «Не надо нам двойной платы, ага. Мы и за полцены все тебе сделаем. Есть у нас несколько бумажек в кушаках. Не в карты выиграли, не украли, не на дороге нашли — десять дней мозоли натирали. Если ты человек, не отбирай у нас последнее!» Но он и рта мне раскрыть не дал. Опять — бабах.
— Не тяните кота за хвост! — орет. — Я уже три патрона на вас извел. И за них тоже я с вас деньги слуплю. Каждый патрон — две лиры. Их издалека привозят. Будете еще упираться, я с вас и кепки и шаровары сдеру, сожгу их на костре, с голыми задницами в Анкару вернетесь.
Гляжу, Бекташ вытаскивает тридцать лир, мятыми пятерочками. У меня семьдесят. Я говорю:
— У меня только двадцать, ага. Валлахи, только двадцать.
А он снова за револьвер.
— Вытаскивайте все, что есть. Сами сказали, что в Айдынлыке десять дней вкалывали. Значит, у вас побольше, чем двадцать или тридцать. Живо доставайте деньги.
Делать нечего, Бекташ свои карманы выпотрошил, я — свои. Положили мы деньги на землю.
— Все, больше у нас ничего нет. — А у самих еще по пятьдесят лир в кушаках.
А этот разбойник кричит:
— Развязывайте кушаки, не злите меня, ублюдки!
— Не заставляй нас разматывать кушаки, в такой темени их и не замотаешь потом, — отвечаю я скороговоркой. Думал, рассмешу его, может, он и подобреет. Скажет: «Черт с вами, проваливайте. Но в другой раз мне не попадайтесь».
Куда там? Совсем взбеленился, окаянный. Как саданет из револьвера! Пуля у меня под самым ухом просвистела. Да еще и огонь из дула вырвался.
— Снимайте кушаки! — вопит. И как пошел ругаться. И наших жен и дочерей обложил. Видим, дело плохо. Кто нам тут поможет, бедолагам, вдали от родного края?! Гляжу, Бекташ развязывает свой кушак, ну и я за ним.
— Вот еще по пятьдесят лир, эфенди-ага. Больше у нас ни куруша. Оставь нам денег на дорогу. И еще малость, чтобы было на что поесть завтра.
Он сгреб и эти деньги. Потом развел нас с Бекташем в разные стороны, хорошенько прощупал карманы и кушаки.
— А теперь поворачивайтесь ко мне спиной — и бегите!
Я снова прошу:
— Оставь нам хоть малость.
— Стоять смирно, — приказывает он.
Мы вытянулись, как нас в армии учили, пятки сомкнули.
— Вольно.
Мы расслабились.
— Приготовиться к бегу.
Приготовились.
— Бегом марш!
Вижу, Бекташ побежал, ну и я за ним. Всю лощину одним духом промахнули. Спины все мокрые, рубашки прилипли, не отдерешь. Себя не помним от страха.
Уже перед самым Иведиком присели отдохнуть в овражке. Два часа все молчали, только пыхтели, отдувались.
Наконец, Бекташ говорит:
— Ограбили нас, дураков.
— Правда? А я и не заметил. — И как напущусь на него: — Зачем ты его умолял, чтобы он нас отпустил? Задницу лизать обещал? Нашел кого умолять.
— А ты чего болтал всякую чепуху? — огрызнулся Бекташ. — Можно подумать, тебя не ограбили.
— Пусть ограбили. Но я хоть честь свою не уронил. Задницу лизать не обещал, как ты, дерьму этому.
Вижу, Бекташ совсем разобиделся, я и примолк.
Два дня я еще пробродил по Анкаре, а потом плюнул на все. «Пропади она пропадом, эта столица! Вернусь-ка я к себе в деревню, тянуть старую лямку», — решил я. И поехал домой. Бекташ остался вместе с земляками.
Перевод А. Ибрагимова.Из сборника «Сын в тюрьме» (1973)
Поездка к сыну в тюрьму
Держа за руку внука Хайдара, посматривая единственным глазом на окружающий мир, Кривой Тахир из деревни Турнадюзю торопливо семенил по проселку. Вот досада — упустил автобус, идущий из Верхнего Сарайджыка! Этот шофер Имран даже старых и увечных иной раз не подбирает.
«Вот подлец-то! — негодовал Тахир. — Погудел бы, подождал несколько минут, так нет же — сразу мчишься дальше, будто шайтан за тобой гонится!»
До касаба три часа пешего хода. Сам-то он, бывший солдат, выдюжит. А внучек еще мал, жаль его.
— Дай-ка я тебя понесу, Хайдар, — сказал Тахир, когда они дошли до Козаклы.
Кое-как дотащил внука до реки Делису. Там, возле моста, остановился передохнуть. Человек он пожилой, легко ли нести и ребенка и торбу, набитую всякой всячиной: тут тебе вареные яйца, лучок, картофель, пшеничная крупа, ощипанная курица да еще и базлама[94] — чтоб всего на неделю хватило!
— Соскучился небось по отцу, голубок? — Он потрепал внука по волосам, поцеловал. — Держись! Скоро дойдем. Этот чертов касаба построили так далеко, что и не добраться! А Имран, вот свинья, не подождал, мимо проехал. Тащись теперь на своих двоих. Люди добрые на машинах, на телегах едут, а мы пешком. — Он посмотрел на гору, у подножия которой приткнулся касаба, и продолжал: — Вот так всю жизнь. Люди добрые на легковушках, джипах и минибусах катят, — а мы все на своих двоих тащимся.
В торбе с самого верху лежало несколько диких груш, пахнущих гвоздикой. Дед запустил руку в торбу, вытащил одну и понюхал.
— На, поешь, голубок!
Они вышли на шоссе Стамбул — Анкара, забитое легковыми автомобилями всех марок: «шевроле», «таунус», «пежо», «рено», «кадиллак», «анадолу», «мурат». Хватало и грузовиков: «ман», «додж», «интер», «остин». В общем потоке катили автобусы и минибусы. Телег и повозок здесь почти не было видно. Пешеходы редко попадались. И еще реже — люди верхом на осликах.
— Не захотел нас подобрать злой человек, вот и плетись теперь пешком, — причитал старик. — Ах судьба наша горькая!
Они с внуком шли по обочине, кое-где присыпанной щебнем, кое-где поросшей травой. Миновали лесничество. По лицу старика лил пот. В касаба он не был уже давно. Да и кого понесет туда без надобности? Прошло уже пять месяцев с тех пор, как он в последний раз ездил в Анкару. Тогда он добрался до касаба на попутном грузовичке, а там уже пересел на минибус, который и довез его до Дышкапы, где сидит в тюрьме его сын Рефик. Обнесли жилой дом колючей проволокой, расставили вокруг часовых с томпсоновскими автоматами — вот тебе и тюрьма! День был ясный, солнечные лучи так и пылали на штыках часовых. Кривой Тахир обратился к дежурному надзирателю:
— Я хочу повидать своего сына Рефика Узуна, родом из деревни Турнадюзю. Он был одним из руководителей профсоюза строительных рабочих.
Через несколько минут привели сына. В комнате, где проходили свидания, дежурили капитан и два лейтенанта. Отца с сыном разделял длинный, во всю комнату стол. Не то что обняться — даже подать друг другу руку запрещено. Кривому Тахиру это очень не понравилось — никакой тебе радости от встречи.
— Ты уж сиди спокойно, сынок. Ни о жене, ни о детях можешь не тревожиться. Я о них позабочусь, — сказал он перед концом свидания.
Рефик покинул деревню семь лет назад. Три года прожил один в Анкаре. Работал на строительстве крупных жилых домов. А сам жил в геджеконду в Третьем топраклыкском районе. Парень он любознательный, дошлый. Сразу же записался в профсоюз, вскоре его выбрали уполномоченным, а там и в руководство выдвинули. Короче, парень шел в гору. Но после военного переворота его — неизвестно, за какую провинность — упрятали в тюрьму. Сначала он сидел в анкарской центральной, затем его перевели в касаба. До конца срока оставалось еще десять месяцев. «Работа, заработная плата, страховка — все полетело к чертовой бабушке, — сокрушался старик. — Ну да ладно. С его-то головой и руками и в деревне не пропадет, выбьется в люди. А пока пусть сидит спокойно, не тревожится за нас».
Он свернул с шоссе направо. Тюрьма совсем рядом, за поворотом. Вот уже и длинные ряды колючей проволоки, за ними — палисад.