Меир Шалев - Фонтанелла
Моя мать всегда относилась к медицине с подозрением, но на этот раз она была вынуждена подчиниться. И хотя речь шла о лекарствах и ядах, прописанных ее единственному сыну — ее родной плоти, если можно так сказать о сыне вегетарианки, — но даже она не могла отрицать тот факт, что вегетарианство пока еще не нашло достойную замену переливанию крови и сращиванию костей. Впрочем, навещая меня, она все равно каждый раз накладывала мне свои повязки, чтобы в будущем иметь возможность утверждать, будто я выздоровел только благодаря им, но отец, защищавший меня от нашествий Йофов, охранял меня от нее тоже. Однако отец был один, а Йофы приходили несметными толпами. Они выслушивали и рассказывали истории, проверяли на «йофовость» всех прочих посетителей и кричали на медсестер. Они окружали мою кровать, толкали и трясли ее, сами того не замечая, потом извинялись, услышав, что я кричу от боли, и тут же с силой хлопали меня по плечу.
Отец защищал меня не только от нее и от них, но и от других людей, появлявшихся в моей палате, — от добровольцев, жаждущих сделать доброе дело и поучаствовать в моем выздоровлении, от множества женщин, назначавших себя моими тетками, а также от всяких самозваных утешителей. Помню, однажды в палату ворвался один такой — с потным красным лицом и с мокрыми красными губами, одетый в желто-клетчатый пиджак, с мутно-выцветшим галстуком, — проложил себе дорогу среди Йофов, завопил: «Кто здесь раненый, где тут наш солдат-герой-защитник отечества?» — и от сильного возбуждения едва не запрыгнул прямо в мою постель. И пока я стонал из-за того, что он сильно толкнул мою кровать, сам он кричал, не переставая:
— Остался без ноги? Не страшно. Мы привезем тебе протез из Швейцарии, и ты еще будешь у нас танцевать на свадьбе… — И тут же, нагнувшись надо мной: — Ну, а как твой болт? Железобетон, нет? Не страшно, мы поставим тебе новый, и болт у тебя еще будет стоять, и хупа у тебя еще будет стоять, и ты еще народишь нам героев-детишек для нашей доблестной армии!
Он всё вопил и хлопал в ладони, но тут из-за его спины появился мой отец со словами:
— Что за чушь ты несешь?! Какая нога, какой протез, болван?! — и, когда тот повернулся к нему с разинутым ртом, добавил: — Кто ты вообще такой, черт побери? Кто тебя сюда звал?
Красногубый обиделся, заорал, что «занимается ранеными героями от имени и по поручению министерства обороны» и несет им «только радость и только веселье», — и уже раскрыл было рот, чтобы завопить: «Весь мир — очень узкий мост»[118], — но тут заметил культю моего отца, и «очень узкий мост» сильно расширился у него в глотке от приятной неожиданности. Он поспешно вытащил из сумки бутылку:
— Виски для безногого солдата-героя, и для безрукого солдата-отца-героя, и для жены безрукого отца-героя, она же мать безногого сына-героя, и да здравствует и процветает наше родное Государство Израиль.
Он торопливо выплеснул мой чай в цветочную вазу, налил из бутылки в пустую чашку и сунул ее отцу под нос:
— Лехаим! Будем здоровы! Чтобы у нас, в Стране Израиля, лилась только кровь девственниц да младенцев на обрезании!
Обычно, когда в окрестностях нашей семьи появляются яды из класса алкогольных, мама вмешивается: «Я не понимаю, как можно пить смертельный яд и говорить „будем здоровы“?» — но на этот раз она лишилась дара речи. Вероятно, слова «от имени и по поручению министерства обороны» оказали на нее пьянящее действие. Но не на отца. Он оттолкнул человека своей единственной рукой и крикнул:
— Давай вали отсюда, вместе со своими протезами и своим виски!
А однажды ночью мне снилась Аня, она лежала на мне так же, как год назад у них дома, и как в поле, и как в саду, — опираясь на локти и колени, и ее прикосновение мгновенно воспламенило мои чресла, и я не чувствовал боли, несмотря на ее вес. Четыре года прошло с тех пор, как они были изгнаны из деревни, она и Элиезер, и не проходило дня, чтобы я не вспомнил о ней, не увидел ее, не почувствовал ее запах, не услышал, как она кричит: «Не прикасайтесь ко мне, грязные мерзавцы!» — и за этим вопль какой-то женщины, которую она лягнула ногой, и другой, которую укусила, — не проходило дня, чтобы я не подумал: она меня спасла, а я ее не спас. И каждый раз, когда я стоял на деревянной веранде Апупы лицом к далекому простору, я снова видел перед собой одну и ту же картину, всю сразу или отдельными кусками: желтое поле, узкое вади, проселочная дорога, маленькая железнодорожная станция. Все застыло недвижимо, а они едут поперек этой неподвижности и этого молчания. Только на этот раз — уже из деревни в поля и не на телеге, запряженной лошадью, а на маленьком зеленом грузовике. И не проходило ночи, чтобы я не проснулся, задыхаясь, как тогда в темноте барака, где Габриэль запер меня и заперся со мною, и мое тело билось о деревянные стены, и его руки обнимали и держали, и его рот говорил мне: «Ну, хватит, хватит уже, Михаэль» — и: «Еще немного», — и крики моей матери снаружи: «Эта курва!» — и еще раз: «Эта курва, эта курва, эта курва!» — а потом голос моего отца — он возвращается поздно вечером, окруженный своими запахами цитрусовых, и сразу всё понимает:
— Что случилось с мальчиком? Что вы ему сделали, я хочу знать! Что вы с ним сделали?
И тогда — дверь распахнута и его голос: «Оставь его, Габриэль, все в порядке, ты уже можешь его отпустить», — и я бегу по краю пшеницы, и пересекаю поле, и падаю в мелкую воду вади, вскакиваю и снова бегу, пока не лишаюсь сил, и сваливаюсь на рельсы, и понимаю, что в свои неполные шестнадцать лет — осиротев, овдовев и утратив свое детство — я теперь во всех отношениях взрослый мужчина.
Наутро я не знал, была она со мной или это мне привиделось во сне. Я думал, что ночью у меня открылись раны и кровотечение привело к потере памяти. В ужасе я проверил свою простыню, но она была белой и свободной от улик. Я пощупал живот и бедра, понюхал кончики пальцев. Запах, как и память, тоже был неясным. Ни крови, ни семени, ни, судя по всему, молока. Не запах Ани, и не мой запах, и не какая-нибудь смесь наших двух запахов, которую я мог бы придумать или вообразить. Но я ясно помнил, что она сказала: «Скоро утро, дай мне уйти…» — а я просил у нее произнести мое имя, и она сказала: «Оно написано на табличке в ногах кровати».
Назавтра врач сказал, что мое выздоровление продвигается хорошо и поэтому я могу провести конец недели дома. Командир части передал, что пошлет мне военную санитарную машину, чтобы я мог ехать с удобством, но Габриэль сказал ему, что военная санитарная машина есть у нас дома, а Жених предложил хоть и старый, но более удобный «траксьон-авант» и даже согласился, чтобы Габриэль повел машину вместо него.
Машина взобралась по аллее кипарисов, погудела, отец открыл ворота и помог извлечь меня с заднего сиденья. Я с трудом встал, подняв в воздух «ногу-которая-болит-болыпе», осторожно оперся на «ногу-которая-болит-меньше» и, не удержавшись, навалился, почти повис на левом плече отца и на правом плече Габриэля.
Обрубок отцовской руки прижался к моей спине.
— Я рад, Михаэль. — Его лицо светилось. — Я рад видеть тебя на ногах.
Откуда-то появилась бутылка вина, выскочила пробка, мама вышла, подождала с похвальным терпением, пока мы прикончили яд, сказала: «С возвращением домой, Михаэль!» — и, побыв с нами еще несколько минут, сказала, что ей нужно замочить зерна хумуса для «гостей», и ушла.
«Священный отряд» уже установил во дворе свой вигвам и поднял над ним свой флаг. Патрульный джип с торчащим на нем пулеметом и вращающимися антеннами стоял сбоку со снятой маскировочной сеткой, укрытый под большим лимоном. Двое ребят из отряда, бывшие кибуцники, уже вернули к жизни старый душ возле барака, и влажные полотенца повисли на веревках, протянутых от веток красной гуявы. Третий парень, иерусалимец, колдовал у чугунного котелка, что висел и бурил над маленьким костром.
— Большое тебе спасибо, Михаэль, — сказал он. — Благодаря тебе мы получили отпуск на двадцать четыре часа.
Чугунок на огне порадовал мое сердце. Это был тяжелый горшок для варки, с толстыми стенками, который «Священный отряд» брал с собой на все сборы. В нем всегда готовился какой-нибудь сюрприз: то куски пойманного по дороге дикобраза, то подстреленный дикий кабан, то гусь, экспроприированный в одном из деревенских дворов, а то и молодой ягненок, приобретенный в одной из их странных бартерных сделок, — а также похлебки из чечевицы и риса, острой фасоли и овощей.
Моя кровать тоже уже ждала меня, но не в доме родителей, а на деревянной веранде. Они отнесли меня туда и уложили на воздухе, с видом на простор. И снова меня удивила глубина борозд, врезанных в мою память: вот большая равнина, там отдаленные холмы, с северо-запада возвышается Кармель, вот поле, проселочная дорога, пожар, кипарис, ее приезд, ее отъезд. Точно такие же, какими я вижу их и сегодня — несмотря на прошедшие годы, и на кварталы, и улицы, окончательно загородившие даль.
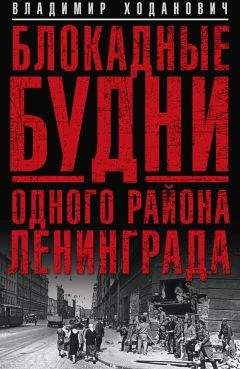

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
