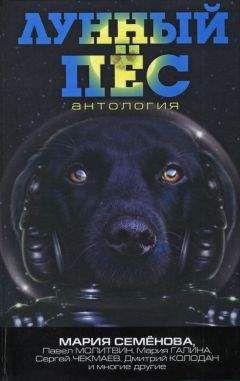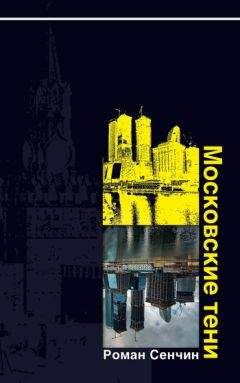Йоханнес Зиммель - Любовь — всего лишь слово
Произнося это, он, подлец, ангельски улыбался, и Геральдина вместе с ним. Они стоят, держась за руки. Интересно, пришлось ли ей показывать ему груди и остальное за то, чтобы он выложил то, что знает. Или он сделал это безвозмездно, со зла?
— Не сердись на него за то, что он больше не хочет быть твоим братом, — говорит Геральдина. — Ведь у тебя сейчас полно хлопот с Рашидом.
Ханзи не спускает с меня глаз.
Ой знает, о чем я думаю. Могу ли я, посмею ли сказать, что несчастный случай подстроил Ханзи? К чему это приведет? Трудно себе представить! Почему тогда я сразу об этом не сообщил? Как будет защищаться Ханзи? («Он мне сказал, что ему надо избавиться от Шикарной Шлюхи!») А смерть фройляйн Хильденбрандт? И опять же Верена, Верена, Верена…
— Пойдем, Геральдина, нам надо спешить, — говорит Ханзи. И, обращаясь ко мне: — А ты, может быть, сходишь в «Родники» и немного утешишь бедного Рашида?
— Как это понимать?
— Он лежит в постели и ревет.
8
Это было 12 марта 1961 года. Я пошел в «Родники» и с часок посидел у постели Рашида, говорил с ним, успокаивая, пока он не перестал плакать. Он сказал, что плакал оттого, что совсем одинок…
Теперь уже все равно. В мире, где потенциальный убийца становится братом Геральдины (здесь вроде как в микрокосмосе разыгрывается то же самое, что и в макрокосмосе — в мире взрослых, в мире народов), в таком вот мире разве не позволительно сказать:
— Ханзи больше не мой брат. Рашид, хочешь стать моим братом?
И тут же его ручонки обвиваются вокруг моей шеи, он прижимается ко мне и в волнении мешает немецкий, персидский и английский.
Я даю ему шоколад, газеты и книги перед тем, как уйти, но он ничего этого не замечает. Он лежит на кровати, уставясь в потолок, и повторяет, повторяет:
— У меня есть брат… у меня брат.
9
— … сталелитейные заводы, понимаете, мистер Мансфельд? Два сталелитейных завода. Уже несколько поколений в семье моего покойного мужа…
Кто эта женщина? О чем она толкует?
— Заводы находятся недалеко у Уоррингтона.
— А где это, миссис Дюрхэм?
— Приблизительно в двенадцати милях от Ливерпуля.
— Угу.
Она говорит. Говорит. А я сплю с открытыми глазами…
В то воскресенье, когда Рашид стал моим братом, я безуспешно ломаю голову над тем, как быть дальше. И сажусь в свою машину и еду в дом отдыха «Человеколюбив. общества» («Ангела Господня») к сестре Клавдии. Почему? Я и сейчас не могу этого сказать.
В доме отдыха жизнь кипит ключом. Мимо зеленой водопроводной колонки я прохожу в здание старого поместья. В прихожей висят старомодные гравюры, на которых изображены добрые ангелы, а под ними благочестивые заповеди. Носятся дети, но кругом много взрослых. Это для меня неожиданно. Я вообще-то думал, что здесь отдыхают только дети. Сестра Клавдия, без двух пальцев на руке, очень рада видеть меня.
— В воскресенье у нас всегда мероприятие!
— Какое мероприятие?
— Выступает брат Мартин. Потом будет обсуждение. Если хотите, можете послушать… А потом можем поговорить о ваших заботах.
— Моих заботах?
— Они, должно быть, у вас немалые. К нам не приходят те, у кого нет больших забот. Я знала, что вы придете, господин Мансфельд.
10
Глядя на Италию, я думаю о Германии. Воспринимая настоящее, думаю о прошлом. Я слушаю миссис Дюрхэм, которая рассказывает мне что-то о своих сталелитейных заводах, и думаю о том, что произошло в последние месяцы, о том, что было со мной и Вереной. Перед моим воображением проплывают картины, я слышу голоса, говорящие вперемешку и один за другим, и в беспорядочной последовательности.
CASTAGNETO CARDUZZI[159]
Я вспоминаю, как брат Мартин предсказывал скорый конец света в пожаре атомной войны, как он цитировал откровения Святого Йоханниса и утешал своих слушателей, членов этого странного «Человеколюбив. общества», заверяя, что им ничего не будет, поскольку у всех у них Господня печать на челе.
STABILIMENTO ENOLOGICO — FABRICA LIQUORI[160].
В свете заходящего солнца море окрасилось в золотистый цвет.
— Следующий пункт Сан-Винченцо! Мы спокойно успеваем на паром и даже можем позволить себе пропустить по рюмочке в порту. Там так романтично…
Июльский полдень. Цветущие кусты, усыпанные огромными красными цветами, жара, лазурное небо.
А я вспоминаю то мартовское воскресенье в Таунусе, когда таял снег и после доклада брата Мартина мы с сестрой Клавдией шли по голому парку дома отдыха…
— Тогда, когда я вас подобрал на автостраде, вы сказали, сестра Клавдия, что я могу заходить к вам.
— Да.
— Можно ли… можно ли мне прийти опять? Если я не вступлю в вашу общину?
— Вы можете приходить, когда захотите. Мы принимаем всех. Погода с каждым днем лучше. Вам нравится сидеть в парке? Может быть, вы хотите, чтобы с вами кто-нибудь побеседовал? У вас есть вопросы?
— Да. Много. Но на них никто не в состоянии ответить. Никто из здешних. Здесь все люди слишком хорошие для того, чтобы знать ответы на мои вопросы.
— Вы все время смотрите на мою руку. Я попала в автокатастрофу. Пришлось ампутировать два пальца.
— Я думаю, что все было иначе.
— Как?
— Что нацисты… что в период третьего рейха…
— Нет.
— И все-таки я угадал?
— Да. Во время допроса в гестапо. На Принц-Альберт-штрассе в Берлине. Я три года провела в тюрьме. Но, прошу вас, не надо об этом. И не говорите никому.
— Не буду.
— Мне повезло, я потеряла лишь два пальца. Подумайте только, что потеряли другие.
— Сестра Клавдия…
— Да?
— У меня еще одна просьба. Могу ли я привести сюда еще одного человека?
— Конечно.
— Женщину?
— Да. Мы будем рады вам обоим, господин Мансфельд. Приходите скорей. И почаще! И не бойтесь. Здесь никто не станет обращать вас в нашу веру. Здесь вы найдете покой. Ведь это именно то, что вы ищете, не так ли?
— Что, сестра Клавдия?
— Покой.
11
CINZANO. CINZANO. CINZANO[161].
Повороты. Большие грузовики. Кактусы.
Покой…
Да мы ищем его. Верена и я. Когда она со своим мужем, Эвелин и господином Лео перебралась во Фридхайм и стала жить в своей красивой вилле, я отвел ее к «Ангелу Господню».
Сестра Клавдия показывает нам скамейку далеко в глубине парка. Там мы часами сидим с Вереной. Расцветают цветы, потом начинает благоухать черемуха, белая и фиолетовая. Весна в этом году очень ранняя.
Покой…
Мы находим его в саду дома отдыха. Никто здесь нас не преследует и никому нас здесь не найти. Ни Ханзи. Ни Геральдине. Ни Лео. Мы всегда очень осторожны и приходим сюда поодиночке кружным путем…
— Теперь мы едем через Сан-Винченцо!
Торжествующе миссис Дюрхэм указывает мне на злосчастный дорожный указатель. Я вижу его и не вижу. Я вижу дома Сан-Винченцо и одновременно себя и Верену на садовой скамье, где мы сидим, держась за руки. Мы часто сидим здесь в марте, апреле, мае. Мы мало говорим. Иногда, на прощание, сестра Клавдия осеняет крестом наши лбы.
— У вас любовь, да? — спрашивает она однажды.
— Да, — отвечает Верена.
Покидая «Ангела Господня», мы идем каждый своим путем. В этот период я много пишу. Моя книга толстеет. Верена, которая прочитывает все, что я пишу, говорит, что не знает, хороша она или плоха. Она не знает также, какая у нас любовь. Она думает, что и то и другое — хорошее: книга и любовь. Но она не уверена. И я тоже.
Каждый вечер мы прощаемся друг с другом на свой старый манер: с помощью карманных фонариков. Она — из своей спальни, я — с балкона.
СПОКОЙНОЙ… НОЧИ… МИЛЫЙ.
СПОКОЙНОЙ… НОЧИ… МИЛАЯ… ПРИЯТНЫХ… СНОВ.
И… ТЕБЕ… ТОЖЕ… ЛЮБЛЮ… ТЕБЯ.
ЗАВТРА… В… ТРИ… У… АНГЕЛА.
Миссис Дюрхэм жмет на тормоз.
Она взволнована.
— Возьмитесь скорее за пуговицу. Загадайте желание.
Я вздрагиваю от неожиданности.
— Почему? Что такое?
Дорогу пересекает пара, идущая под венец. Крестьянская девушка и крестьянский парень. Она в белом, он в черном. За ними процессия родственников. Дети и глубокие старики. В руках у невесты полевые цветы. Звонит колокол маленькой церквушки. В ее дверях стоит священник. На нем белая ряса, из-под которой выглядывает черная, и грубые крестьянские ботинки.
Доносится жиденький звук старого органа. Кто-то играет на нем, фальшивя. Но все торжественно, очень торжественно…
Очень торжественно все было и во Фридхайме, когда женились доктор Фрай и мадемуазель Дюваль. Однако в загсе, а не в церкви. Пришло много детей, чтобы посмотреть. В зале ратуши было очень торжественно, сам бургомистр вершил брачную церемонию, и тощенький, трясущийся старичок очень фальшиво играл на старой фисгармонии.