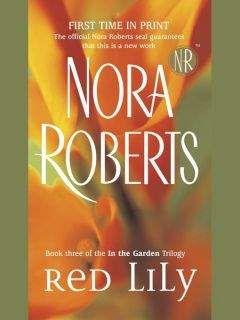Тан Тван Энг - Сад вечерних туманов
– Вы хотите увидеть сад.
– Сад? – На какой-то миг она казалась озадаченной. – А-а! Нет, лах. Нет. Но однажды мистер Аритомо сказал мне, что у него есть изображение Лао Цзы. Мне хотелось бы увидеть его, если оно все еще здесь.
– Оно по-прежнему на месте. Как и ваш храм.
Я веду ее в дом, к рисунку тушью, созданному отцом Аритомо. Монахиня останавливается перед старым мудрецом. Посредине рисунка – разрыв, но он так искусно заделан, что почти не замечается.
– «Покончил с делом – время уходить», – тихо произносит монахиня. – Таков завет Дао[239].
Я уже много раз перечитала Дао Дэ Цзина, и эта фраза мне знакома.
– Дело Аритомо не было закончено, когда он ушел.
Монахиня оборачивается ко мне и улыбается – не мне, а самому миру.
– А-х-х… А вы в этом уверены?
Прибираясь в кабинете после того, как проводила монахиню и ее спутницу, я думаю над тем, что она рассказала. До сих пор еще оставалось столько всего, чего я не знала об Аритомо, так много такого, о чем я не узнаю никогда!
Сняв несколько книг с одной полки, я обнаруживаю за ними шкатулку. Открываю и нахожу в ней пару гнезд саланган, ставших от старости заскорузло-желтыми. Это гнезда, которые подарил мне Аритомо. Я достаю одно из них, оно кажется таким хрупким. Не помню, чтобы я хранила их в этой шкатулке, когда мы вернулись из пещеры, но так и не пустила их на суп, как предлагал Аритомо.
– Судья Тео?
В дверях появляется Тацуджи. Я закрываю шкатулку, ставлю ее обратно на полку, приглашаю его войти.
Он извещает:
– Я завершил осмотр укиё-э.
– Можете пользоваться ими всеми, – говорю я ему. – Даю вам свое позволение.
Это больше, чем он ожидал. Он кланяется мне:
– Мой адвокат вышлет вам договор.
– Есть еще одно произведение Аритомо, и я хочу, чтоб вы его оценили, Тацуджи.
Не уверена, что стоило бы продолжать, еще не поздно передумать, но ведь именно поэтому я и желала его видеть, по этой причине и пригласила его в Югири.
– Аритомо был татуировщиком.
– Значит, я был прав с самого начала. Он был хороти, – улыбка на лице ученого становится еще шире. – У вас есть фотографии созданных им татуировок?
– Он никогда не делал никаких фотографий.
– Наброски?
Я отрицательно качаю головой.
– Он оставил вам образцы своих наколок?
– Всего один.
Понимание стирает пелену возбуждения с его лица.
– Он вас татуировал?
Я киваю, и Тацуджи ненадолго смежает веки. Уж не благодарит ли он Бога Татуировок? Меня не удивило бы, если б такое божество существовало.
– Где она? У вас на руке? На плече?
– У меня на спине.
– Где в точности? – спрашивает он, становясь все более нетерпеливым.
Я продолжаю смотреть на него, и его лицо тонет в потоке внезапного озарения.
– Со, со, со[240]. Не просто татуировка, а хоримоно!
Он на время лишается дара речи.
– Это было бы одним из важнейших открытий в японском художественном мире, – выговаривает он наконец. – Представьте: садовник императора Хирохито – создатель произведения искусства, на которое наложено табу. На коже женщины-китаянки, что не менее поразительно.
– Об этом не должно быть никаких упоминаний, если вы хотите использовать укиё-э Аритомо.
– Тогда зачем вы мне рассказали об этом?
– Хочу, чтобы это хоримоно было сохранено после моей смерти.
– Это легко устроить.
– Как?
– Составим договор, что вы завещаете свою кожу после вашей смерти мне – после незамедлительной оплаты, уже сейчас, если вы пожелаете, – говорит Тацуджи. Рука его вычерчивает в воздухе изящный круг. – Детали можно обсудить позже. Но прежде всего, – ладони его сходятся в молчаливом хлопке, – прежде мне придется убедиться в качестве и характере работы на вашей коже. Мы проделаем это в присутствии женщины-ассистента, разумеется. Можем договориться о встрече в Токио.
– Нет. Мы проделаем это тут. Прямо тут. В этой комнате, – говорю. – Незачем напускать на себя смущенный вид, Тацуджи. Мы оба – взрослые люди. И достаточно насмотрелись на обнаженные тела.
– Я бы предпочел, чтобы присутствовал кто-то еще, чтобы не могло возникнуть никаких пересудов… э-э…
Его пальцы теребят узел галстука.
– В нашем-то возрасте? Вот уж точно – нет. Или мне следует почувствовать себя польщенной оттого, что, по-вашему, есть хотя бы возможность, что я смогла бы… изменить ваши предпочтения?
Я делаю роскошный сладострастный вздох, наслаждаясь его смущением.
– Хорошо, Тацуджи. Я подыщу кого-нибудь. Кто выступит в роли компаньонки.
Я смеюсь – на душе радость.
– Какое старомодное словечко: компаньонка, вы не находите?
– Когда я исследовал жизнь и творчество Аритомо-сэнсэя, кое-что меня озадачивало.
– Что именно? – смешливость моя пропадает, ей на смену приходит осмотрительность. – Несообразности?
– Нет. По сути, совсем наоборот. Все, выясненное мною о его жизни, представлялось естественным и все же как будто… созданным искусственно. Это было похоже… знаете, это походило на прогулку по саду, созданному мастером-ниваши.
– Возьмите, к примеру, вражду между Томинагой Нобуру и им, – добавляет он. – Они были добрыми друзьями еще с мальчишеских лет.
– Так часто бывает, что друзья детства ссорятся, когда подрастают.
Тацуджи на мгновение задумывается. Он просит меня подождать, покидает кабинет и возвращается через несколько минут со своим портфелем. Открывает его и достает черный мешочек. Развязывает на нем шнурок и вынимает блестящий металлический предмет. На секунду я представила его вынимающим крючок, застрявший в пасти рыбы. Тацуджи кладет предмет мне на ладонь.
Серебряная брошь, размером с десятицентовую монету, выполненная невыразимо искусно и изящно.
– Что за цветок? – спрашиваю, вертя ее в пальцах.
– Хризантема. Такие броши император вручил избранной группе людей во время Тихоокеанской войны.
– С какой целью? – я усаживаюсь в одно из кресел розового дерева.
– Вы когда-нибудь слышали про «Золотую лилию»?
Брошь поблескивает на складках моей затянутой в перчатку ладони.
– Нет.
– Это название одного из стихотворений нашего императора, – говорит историк. – «Кин но йури»[241]. Прекрасное название, не так ли, для одного из самых худших преступлений моей страны во время Тихоокеанской войны? Было это в 1937-м, после нашего нападения на Нанкин. Чиновников во дворце обеспокоило, что армия присваивает себе военные трофеи. Для того чтобы и высшие власти империи получили свою долю добычи, был разработан план. Он получил название «Золотая лилия».