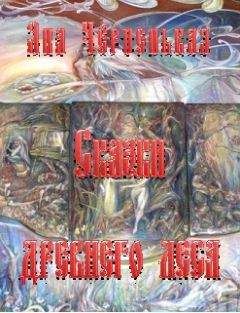Дуглас Кеннеди - Момент
— Да, только потом, когда я окажусь в Штатах вместе с тобой и будущий работодатель попросит у Велманна рекомендацию, тот скажет, что я никуда не гожусь.
— Похоже, ты сама пытаешься убедить себя в том, что ехать нужно.
— Ты прав. Именно этим я и занимаюсь.
— Тогда осчастливь своего босса и поработай на него в Гамбурге. А потом возвращайся ко мне. Кстати, ты выяснила, где мы сможем расписаться на следующей неделе?
— Rathaus[95]B Кройцберге регистрирует браки. Их только нужно уведомить за три дня.
— Значит, если мы заскочим туда в понедельник утром, сможем договориться на пятницу?
Петра закусила губу, ее глаза наполнились слезами.
— Ты слишком хорош, Томас.
— Я не понял, это — «да»?
Она кивнула, смахнула слезы с глаз и сказала:
— Я всегда буду любить тебя. До конца своих дней.
Через час, проводив Петру долгим поцелуем, я оделся и вышел позавтракать в кафе «Стамбул». Отъезд Петры оставил у меня чувство пустоты и легкое беспокойство — возможно, потому, что это было наше первое расставание. И, хоть я уговаривал себя, что она вернется всего через сорок восемь часов, все равно не мог избавиться от этого глубинного страха, вечного спутника любви, — страха перед тем, что у тебя отняли самое дорогое.
Зато день был ясным и солнечным. Я вновь и вновь прокручивал в голове слова Петры, когда она прервала наш бесконечный поцелуй на пороге квартиры: «На следующей неделе я выйду за тебя замуж, потому что очень хочу быть твоей женой».
Утро прошло размеренно. После пробежки и нескольких часов, проведенных за рабочим столом, я появился на «Радио „Свобода“» в пять пополудни, как и договаривались. Павел встретил меня в холле, но не один — с ним был какой-то незнакомый мужчина. Невысокого роста, коренастый, телосложением он напоминал футбольного защитника, вступившего в полосу среднего возраста, но тем не менее сохранившего былые навыки сдерживания натиска противника. Во всяком случае, именно такой образ сложился у меня в голове, когда я был представлен этому джентльмену с короткой стрижкой, в ультраконсервативном синем костюме в тонкую полоску, голубой рубашке, репсовом галстуке и с американским флажком в петличке левого лацкана. Общее впечатление усиливал его взгляд, в котором угадывалось превосходство с оттенком презрения. Кто же этот парень?
— Я хочу познакомить тебя с твоим большим поклонником, — сказал Павел. — Уолтер Бубриски.
— Что, тоже твой земляк? — спросил я.
— Только по имени, — произнес Бубриски с акцентом, от которого повеяло пустынными равнинами американского Среднего Запада.
— Уолтер здесь второй человек в ЮСИА, — сказал Павел.
— Полагаю, вы о нас слышали? — спросил меня Бубриски.
Конечно, я помнил, что говорил Велманн, когда нанимал меня на работу: если мне доведется когда-либо иметь дело с людьми из ЮСИА, следует помнить о том, что это сотрудники разведывательных служб. Все знали, что ЮСИА была ширмой ЦРУ. Да и этот Бубриски определенно выглядел шпиком.
— Да, про ЮСИА мне все известно, — ответил я намеренно невозмутимо.
— Тогда, полагаю, вам известно и то, что мы крайне заинтересованы в работе «Радио „Свобода“» и ее авторов. Должен сказать, что я в высшей степени впечатлен вашим вкладом в работу радиостанции.
— Благодарю.
— Мы очень рады, что именно вам поручено провести первое интервью с Браунами. Но так получилось, что возникла некоторая задержка, и нам нужно как-то убить целый час, прежде чем мы отправимся к ним. И поскольку я всегда стремлюсь познакомиться поближе с нашими авторами, почему бы мне не угостить вас пивом?
— Ты с нами? — спросил я Павла.
— Боюсь, что нет. У меня срочное задание.
Мне почему-то показалось, что Павел, зная о том, что интервью назначено на шесть, нарочно пригласил меня прийти на час раньше, поскольку со мной хотел встретиться Мистер Шпик. Я не сомневался в том, что парень намерен дать мне директиву на будущее, очевидно углядев какой-то нежелательный подтекст в моих предыдущих очерках. А может, попросту хотел пополнить досье, которое они собирают на каждого сотрудника, и решил прощупать мои социально-политические взгляды за кружкой пива.
Как бы мне ни хотелось увильнуть от этого разговора, писатель во мне взял верх: это же может стать фантастическим эпизодом для моей книги, тем самым моментом, когда я, столкнувшись с «рыцарем» «холодной войны», могу проверить на прочность свои убеждения.
— Буду рад выпить пива со своим поклонником, — сказал я. — Тем более что поклонник угощает.
— Ты говорил, что он настоящий ньюйоркец, — сказал Бубриски Павлу.
— А вы откуда родом, сэр? — поинтересовался я.
— Манси, штат Индиана. Из той части света, которую вы на Востоке называете «перекрестком».
Что ж, разговор обещал получиться очень интересным.
Бар, куда мы пришли, находился через дорогу от «Радио „Свобода“». Это была классическая берлинская Bierstube[96]. С грубоватым, простецким интерьером и отсутствием посетителей. В дальнем углу была кабинка, куда меня и провел Бубриски, и я тотчас подумал: так вот где он проводит «беседы».
Подошла официантка, и мы оба заказали «Хефевайцен». В ожидании заказа я достал кисет с табаком и сигаретную бумагу.
— Это логично, — сказал Бубриски.
— Что именно?
— Что ты куришь самокрутки.
— И в чем же здесь, по-вашему, «логика»?
— Просто это вписывается в образ, который я себе нарисовал.
— А почему вы рисовали мой образ?
— Потому что, как заметил наш польский друг, я большой почитатель твоего таланта.
Принесли пиво. Как только официантка вернулась к бару, он поднял свою кружку и сделал долгий глоток. Выходит, чокаться за знакомство не входило в его планы. Я слепил самокрутку и закурил, ожидая, что будет дальше.
— Значит, вы читали мою книгу? — спросил я.
— И не только. Как любой фанатично преданный читатель, я разузнал много чего о своем любимом писателе.
Я уловил иронию в его последних словах и, отхлебнув пива, спросил:
— И что же вы разузнали?
— О, массу интересных подробностей. Скажем, о несчастном манхэттенском детстве. О матери, вздорной Hausfrau, для которой сын был помехой в жизни. Об отце, который воспринимал артистическую натуру сына как чудачество. О том, как мальчишка с детства воображал себя парижским интеллектуалом. И, поступив в элитный Истерн-колледж в Мэне, так и остался высокомерным нью-йоркским умником, который расхаживал по кампусу в тренчкоте, курил вонючие французские сигареты и вел заумные беседы о Прусте, Трюффо и Роб-Гийе…