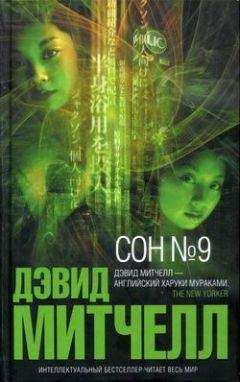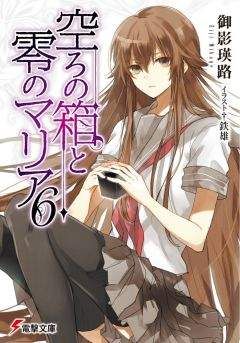Сон № 9 - Митчелл Дэвид
– Привет.
– Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не мог бы я, э-э, поговорить с дежурной сестрой?
– Вы можете поговорить со мной, если хотите. Меня зовут Судзуки. Я врач. А вы?
– Э-э, Эйдзи Миякэ. Я приехал навестить свою мать. Пациентку. Марико Миякэ.
Доктор Судзуки ахает:
– О, наконец-то! Долгожданный гость, Эйдзи Миякэ. Наша блудная сестра все утро была как на иголках. Мы предпочитаем говорить «гости», а не «пациенты» – только не подумай, что у нас здесь какой-нибудь культ. Надо было позвонить из Миядзаки. Ты долго нас искал? Сюда сложновато добираться. Но по-моему, когда ты ежеминутно окружен людьми, одиночество оказывает целительное воздействие. Ты уже ел? Сейчас все обедают в столовой.
– Я съел рисовый шарик в автобусе…
Доктор Судзуки видит, что меня не прельщает встреча с матерью при посторонних.
– Ну, тогда подожди в чайном домике. Мы им очень гордимся – один из наших гостей был мастером чайной церемонии и будет им снова, если я хоть что-нибудь понимаю в своем деле. Домик построен по образцу чайных домиков Сэн-но Рикю[235]. Я пойду скажу твоей маме, что ты уже здесь.
– Доктор…
Доктор Судзуки поворачивается, крутанувшись на одной ноге:
– Да?
– Нет-нет, ничего.
По-моему, она улыбается.
– Просто будь собой.
Я скидываю обувь и забираюсь в прохладную хижину размером в четыре с половиной татами. Смотрю на поющий сад. Пчелы, стебли фасоли, лаванда. Отпиваю ячменный чай – он согрелся и вспенился за время пути – из бутылки, купленной в Миядзаки. Папирусная бабочка замирает на потолке и складывает крылышки. Ложусь на спину и закрываю глаза – всего на секунду.
Над Нью-Йорком вьется снежная пелена и стая серых ворон. Я знаю водителя моего большого желтого такси, но ее имя ускользает всякий раз, как я пытаюсь его вспомнить. Проталкиваюсь сквозь толпу журналистов с пучеглазыми объективами и оказываюсь в студии звукозаписи, где Джон Леннон большими глотками пьет ячменный чай.
– Эйдзи! Твоя гитара уже отчаялась!
О встрече с этим полубогом я мечтал с двенадцати лет. Моя мечта сбылась, и мой английский в сто раз лучше, чем я смел надеяться, но все, что мне удается выдавить из себя, – это:
– Извините, что опоздал, господин Леннон.
Великий человек пожимает плечами в точности как Юдзу Даймон.
– Ты девять лет учил мои песни, так что зови меня Джоном. Или называй, как хочешь. Только не Полом. – (Все смеются над шуткой.) – Позволь мне представить тебя остальным членам группы. С Йоко ты уже встречался: однажды летом, в Каруидзаве, мы катались на велосипедах[236]…
Йоко Оно в наряде Пиковой дамы.
– Все в порядке, Шон, – говорит она мне. – Мамочка просто ищет свою руку в снегу[237].
Это кажется нам безумно смешным, и мы разражаемся хохотом. Потом Джон Леннон указывает на фортепьяно:
– А на клавишах, дамы и гопота, с вашего позволения, господин Клод Дебюсси.
Композитор чихает, и у него изо рта вылетает зуб, что вызывает новый приступ хохота, – чем больше вылетает зубов, тем сильнее мы хохочем.
– Моя подруга-пианистка, Аи Имадзё, – обращаюсь я к Дебюсси, – обожает вашу музыку. Она выиграла стипендию Парижской консерватории, а отец запретил ей ехать. – (Ух ты, мой французский тоже великолепен!)
– Тогда ее отец – сраный боров-сифилитик. – Дебюсси опускается на колени и подбирает зубы с пола. – А госпожа Имадзё – исключительная женщина. Скажите ей, чтобы ехала! У меня слабость к азиаткам.
Я в парке Уэно, среди кустов и палаток, где живут бездомные. Мне кажется, что это не очень подходящее место для интервью, но Джон сам предложил сюда пойти.
– Джон, а в чем настоящий смысл «Tomorrow Never Knows»?[238]
Джон принимает позу мыслителя:
– А я не знаю.
Мы заливаемся хохотом.
– Но ведь ты ее написал!
– Нет, Эйдзи, я не… – Он смахивает с глаз слезы. – Это она меня написала.
Тут полог у входа в палатку приподнимается, и Дои вручает нам пиццу. Открываем коробку – в ней лежит брикет марихуаны. Дама с фотографиями – похоже, мы у нее в гостях – орудует кондитерской лопаткой с рукоятью, увенчанной отполированным черепом горностая. Всем достается по тонкому ломтику – на вкус как зеленый чай.
– Какая песня Джона нравится тебе больше всего, Эйдзи-кун?
Я вдруг понимаю, что Дама с фотографиями – это замаскированная Кодзуэ Ямая, и нам всем становится очень смешно.
– «Сон номер девять», – отвечаю я. – Это настоящий шедевр.
Джон приходит в восторг от моих слов и изображает индийского божка, напевая: «Ah! böwakawa poussé poussé»[239]. Хихикает даже плексигласовый синий кит перед Национальным музеем природы и науки. Легкие наполняются смехом, я чуть не задыхаюсь.
– Дело в том, – продолжает Джон, – что «Сон номер девять» связан с «Норвежским деревом». Обе эти песни – о призраках. «Она» в «Норвежском дереве» обрекает тебя на одиночество. «Два духа, танцующие так странно» в «Сне номер девять» даруют тебе гармонию. Но люди предпочитают одиночество, а не гармонию.
– А что означает название «Сон номер девять»?
– Девятый сон начинается после того, как что-то заканчивается.
Гуру гневно вопрошает:
– Почему ты забросил поиски нирваны?
– Если ты такой глубокий мыслитель, – фыркает Джон, – то должен сам знать почему!
Меня распирает смех и…
– …я проснулся. И увидел маму в дверях чайного домика.
Аи выключает музыку.
– Ты проснулся от смеха? А что она подумала?
– Потом она призналась, что решила, будто у меня припадок. А еще позже она сказала, что Андзю часто смеялась во сне, когда была совсем маленькая.
– Вы долго говорили?
– Часа три. Пока не спала жара. Я только что вернулся в Миядзаки.
– И ни ты, ни она не испытывали особой неловкости?
– Не знаю… Мы будто мысленно заключили своего рода соглашение: она отбросила роль матери, а я отбросил роль сына.
– Судя по твоим рассказам, вы и раньше не играли эти роли.
– Верно. Ну, то есть мы вроде как договорились: я не стану сравнивать ее с образцовой матерью, а она меня – с образцовым сыном.
– И… как вы поладили?
– Наверное, мы можем стать, э-э, в каком-то смысле…
– Друзьями?
– Не стану притворяться, что у нас тут праздник любви и мира. Мы словно шли по минному полю, избегая касаться взрывоопасных тем, хотя когда-нибудь нам придется их обсудить. Но… Она мне понравилась. Она – живой человек. Настоящая женщина.
– Даже я могла бы тебе это сказать.
– Ну да, но я-то воображал ее таким картонным персонажем, который делает то-то и то-то, но никогда и ничего не чувствует. А сегодня я увидел в ней женщину, которой уже за сорок и у которой была не такая легкая жизнь, как расписывали якусимские сплетники. Когда она говорит, в словах – вся она. Не то что в письмах. Она рассказала мне об алкоголизме, о том, что он делает с человеком. Только не винила во всем алкоголизм, а говорила как ученый, исследующий заболевание. А угадай, что я узнал про свою гитару? Оказывается, когда-то это была ее гитара! Все эти годы я играл на ее гитаре и не догадывался, что она тоже умеет играть.
– А этот гостиничный магнат из Нагано там был?
– Он приезжает раз в две недели, на выходные, сегодня его не было. Но я обещал, что приеду еще раз, в следующую субботу.
– Здорово. Убедись, что у него благородные намерения. А как же твой настоящий отец?
– Это одна из взрывоопасных тем. Может, как-нибудь в другой раз. Она спросила, понравилось ли мне в Токио и много ли у меня друзей. Я похвастался, что одна моя подруга – гениальная пианистка.