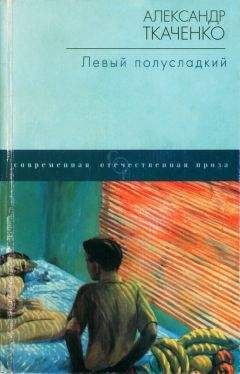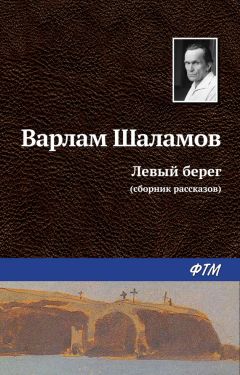Сергей Солоух - Игра в ящик
Впрочем, бульдожьи яблочки в глазах Левенбука и после тет-а-тет с С. А. Мелехиным остались прежними. Не увеличились и не уменьшились, зрачок и раек не разделились, только температура густых штабных чернил стала иной.
– Где же обещанная статья, Елена? – начал по утрам интересоваться Алексей Леопольдович. – С такими темпами вы не успеете в осенний сборник.
А темпов никаких и не было. Всех дел – перепечатать первую страничку, фамилию соавтора из восьми букв, первая «п», заменить на новую, из тех же восьми, только лидирующей станет «л», элементарный сдвиг вперед на четыре бита, но сердце не лежало, и душа противилась, и неприятно было думать о гнусной сущности простейшей операции. А когда Ленка решилась, собралась духом, сдалась, то первым и главным унижением стало вычеркивание этих самых восьми букв с лидирующей «л». Единственное, по сути дела, исправление, сделанное Левенбуком, молниеносное и оскорбительно непроизвольное.
Он, как и раньше, не хотел иметь с ней ничего общего. Все так же. Даже сейчас, когда отцовское объединение стало ведущим предприятием для его докторской, А. Л. Левенбука, в то самое время, когда там, в Стукове, уже торчал Гринбаум, что-то под землею поспешно измеряя, записывая для собственной, из пыли и забвения извлеченной кандидатской, ничего не менялось. Не принимали. Ленку Мелехину, как до того злосчастного собрания, как после него, всегда, бесповоротно и однозначно не принимали. С вежливой отстраненностью и неизменностью.
Только щетина хрустела и обнажались зубы – смесь хищника с охотником дарила ей улыбку:
– Нет, нет, Елена, этого не надо, пусть у вас будет самостоятельная публикация. Это хорошо смотрится в автореферате. Очень хорошо.
В автореферате. Автореферата, авторефератом – плясовой хорей, который ей так хотелось услышать сначала из гениальных уст Прохорова, потом из нервных уст Прокофьева, теперь, холодный, деловой, на языке Левенбука лишь злил какими-то дорожными и бездорожными ассоциациями. У папы ГАЗ-24, у Левенбука ВАЗ-2102. Авто-моби-листы.
– Никогда в жизни не получишь на это денег!
И так всегда, навечно, до гроба папа заказывал путь Мишке. Просился ли тот в Литературный институт:
– Да что за блажь, на алкаша учиться? Проститутку? Удумал тоже!
Или всего лишь навсего на курсы в автошколу:
– Какой тебе руль? С твоей безответственностью и сам убьешься, и еще кого-нибудь погубишь. Оболтус. Займись английским, позорник, если бы не мать, не видать бы тебе академа как своих ушей. С порога прямо в армию бы топал. Шалопай!
«Интересно, – часто теперь думала Лена Мелехина, – получил ли Мишка права, в той своей второй, послеармейской, казавшейся такой счастливой московской жизни? Успел? Ведь мог. Легко. Конечно...»
Его пугали этой армией, а он как будто туда стремился, заранее знал, каким-то только ему свойственным чутьем предвидел, куда доставят его прямым ходом днепропетровская учебка, топографическое подразделение артиллерийского полка в серо-зеленом Подмосковье, друган-сержант с морской фартовою фамилией Кормило, сестра его Татьяна, на выходные приезжавшая с тортиком «Прага». И, кажется, впервые в жизни папа и мама гордились своим сыном Михаилом. Ну как же, породнились с профессорами МГИ. Ого! Борис Иванович Кормило – заведующий кафедрой, величина и имя в науке дегазации, Роза Прокофьевна Кормило – доцент кафедры политэкономии. Автор методических пособий по организации труда.
Одно такое долго разлагалось под солнцем на полке у отца, напоминая селедочной бумагой и полусъеденными буквами школьный дневник. Но только вместо красных двоек внутри и записей химическим карандашом «Родителям явиться школу» косая аккуратненькая дарственная сбегала к заглавию от левого угла обложки.
«Скромный труд... окажется... ля-ля не только интересен... но и пурум-пурум... полезен...»
– Не наш, простой деревенский подход, научная метода, – язвил отец, но верил, верил тем не менее. – Теперь уж точно станет на ноги. Повезло балбесу, ничего не скажешь...
И в самом деле, как-то ловко сразу после демобилизации Мишка досдал несданное в ДПИ и оказался сразу на четвертом курсе уже МГИ, закончил с рекомендацией в аспирантуру. И поступил в Институт горного дела АН СССР, и научным у него оказался член-корреспондент этой самой АН СССР.
– Без пяти минут академик, – шептала мама тете Гале, и тетя Галя в ответ загадочно и томно улыбалась, как будто в этом без чего-то – минут, рублей и граммов – ей виделось нечто понятное, родное и даже правильное. Какой-то плюс ее сестре Ларисе, всю жизнь прокуковавшей училкой в горном техникуме.
А потом опять что-то случилось. И снова летом, в астматические ночи, между Ленкиным последним и предпоследним курсами. Ночные телефонные звонки, полупридушенные разговоры:
– Ах, господи, ну хорошо хоть детей не наделали...
– Нет, подожди, я хочу знать, как так, чего ему, собаке, не хватало...
И быстрый отъезд отца, и скорое его возвращение, и самое страшное. Нет, не разбитые костяшки, опять кожица, содранная как будто сорвавшейся, не по бесчувственному, костяному, а по живому с кровью резанувшей маникюрной пилкой, жуткая темная линза на щеке, полумесяц и что-то вроде точки между рожек, как будто марку Красного Креста перевернули, прилепили, а после резко, без предупреждения сорвали с папиного лица.
– Что это у тебя, Слава?
– В поезде, Лора, сказали, какой-то придурок выбежал на рельсы. Резкое торможение...
И ужас, ужас, острый, горловой, давно забытый, оттого что Мишка, брат, снова окажется на пути, и сразу после окончания института ее вернут домой, не пустят в Москву, в аспирантуру. Но обошлось, ведь у нее, у Ленки, всегда как раз все то, что портил Мишка, получалось, выходило, а то, что выходило у него, ей даже воображение не предлагало, не соблазняло ни видом, ни цветом.
Леночка – веревочка, Леночка – замочек.
Вытянись-ка в струночку, дам тебе цветочек.
Попросту в списке нужных и полезных московских номеров ей мама не внесла семь цифр дяди Бори и тети Розы. Ведь брат уехал. Уехал в Нерюнгри. Так теперь считалось. За длинным рублем.
А Ленка – всего лишь навсего в Малаховку на три копейки, и вновь благодаря вмешательству отца. Вдруг взялся за нее родитель и обустроил ей всю жизнь. Определил в расчетное бюро конструкторского отдела Гипроуглемаша. Место нашел не просто в десяти минутах езды на электричке от Фонков, от ИПУ, но и еще с отдельным свободным днем, вторником. У шефа, совершенно лысого, из-за больших ушей-ухватов похожего на тумбу с самоваром, и потому, наверное, чаи гонявшего с утра до вечера, в толстой тетради записалась: «ИПУ, весь день» – и птица. Лети на станцию с очередной переработкой очередного параграфа, чтобы вернуться вечером уже побитой кошкой с очередной правкой предшествующего. В асимметричных галках, головастиках и длиннохвостых змейках левенбуковских пометок на полях, между абзацев, строк и даже на обратной стороне листа. «См. со стрелкой» страницу делало пропеллером в руках Елены и лентой Мебиуса в ее уставших на все это пялиться глазах.
Ну да, смогла, конечно, пройти семинар в отделении и положить в совет работу, все как положено, но и Подцепа, бездушный и бессердечный умник, любимчик Левенбука, такую же счастливую формальность однажды выполнил, да только уже больше года переплетенным экземпляром, настоящим, ту куклу, что притаскивают второпях, для справки, так и не заменил. То в секторе сидит, пугая совсем уж странными и диким углами разбеганья глаз, то пропадает где-то у себя, в Южбассе. Везет везунчик и везет, везет, конца дороги не увидеть, а недотепе, рыжей Ленке, сколько назначено тогда столбов – и телеграфных, и полосатых верстовых, да и к чему, и думать не хотелось...
Но отец радовался, считал, что все наладилось, все в лучшем виде и на мази, а уж Малаховкой, сосновым раем, просто гордился. Собственноручно снятой хрущевкой с окнами в лес, заставленный, заваленный стволами, как бухта шпангоутами, мачтами галер и каравелл после убийственного шторма.
– Ну как там, хвост пистолетом? – весело спрашивал, будя междугородним по субботам, как будто этот веник-хвост – символ душевного подъема, вечнозеленого энтузиазма – и в самом деле был чем-то навроде дырокола, автоматического шила, для постоянной боевой готовности нуждавшегося только в смазке и зарядке, механике благоустроенности. А в цели, смысле, неровном дыханье, головокружительном предчувствии собственно огневого рубежа – совсем необязательно.
«Нет, якорем. Пудовой гирей, как у волчка из сказки», – хотелось буркнуть Ленке, и даже рявкнуть, но жалко было папу, маму, саму себя, но, правда, лучше бы она уехала домой, работать ассистентом в филиале Новочеркасского политехнического, чем пропадать теперь в этой Малаховке, затоне мертвых парусников, где каждый день в среде конструкторов, в бюро расчетов отбивал желанье мечтать. Враги прогресса, ретрограды и мракобесы окружали Ленку. И старые, заветренные, с душком, как тетигалина рыбешка, и молодые, шары навыкате, как у мальков, бесили своим бескрылым прагматизмом, чуть только речь заходила о диссертации, да и вообще науке. Всего высокого, красивого, без дохлой перхоти на шее.