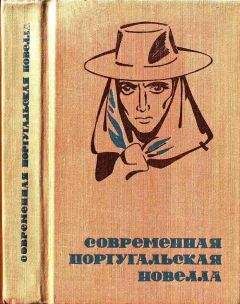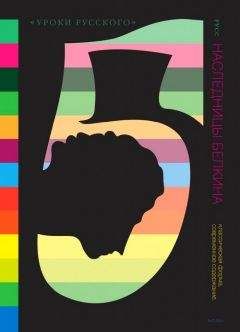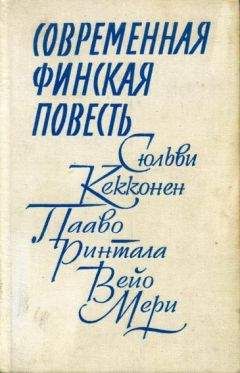Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Лумиар
Улица «С», участок 1580 (недалеко от шоссе Эстрада-да-Торре). 6 смежных комнат, итальянская кухня, 2 ванные, туалет, степные шкафы, центральное отопление, hall, застекленная терраса и веранды. Алюминиевые оконные рамы. Отделка «люкс». Приватная стоянка автомашин. Цена 1450 конто.
Оливаес-Сул
Улица Сидаде-де-Болама, рядом с магазином самообслуживания. 6 смежных комнат, кухня, туалет, 3 ванные, стенные шкафы, балкон. Ковры повсюду. Цепа — 1350 конто.
* * *Сегодня, когда я чувствую себя полумертвым, чуть ли не в столбняке, меня приглашают поужинать вчетвером, и я соглашаюсь, потому что весь день работал, как негр, а тут как знать… Однако моя собеседница оказывается до такой степени из другого мира, из другого измерения, что я не могу даже заглотать приманку (мы сидим в фешенебельном кабаке): пропасть, разделяющая нас, с каждым словом становится глубже и глубже, и эта хорошенькая женщина, холеная, пикантная и образованная, у которой богатый, скучный и вечно отсутствующий муж, — эта женщина не считает нужным скрывать свой кастовый эгоизм хотя бы настолько, чтобы я мог ее терпеть. Я, может быть, для нее тоже не наилучший партнер, но мы продолжаем наш поединок.
Я вспоминаю балы, на которых тщетно искал в толпе неповторимое лицо, тоскуя по той ночи, скамье и дождю, но слышал вокруг пустую болтовню: «Это было в Сан-Карлосе…», «Вы не очень-то разговорчивы…», «Если ваш психологический потенциал…», «О чем это вы думаете, чему улыбаетесь?», «Я, пожалуй, готова изменить свое мнение…», «Я всегда искренна…», «Для меня жизнь в том, чтобы все испытать и прочувствовать самой…».
В этот раз говорилось еще о духоте в зале. Я почему-то подумал: «Палос-де-ла-Фронтера, город в испанской провинции Уэльва, сегодня — моя вожделенная гавань». Не иначе как любовное приключение?! Нет, открытие, бегство, попытка начать все сначала… Влажные податливые губы, до муки чувственные, неповторимые. Она любит слово «неповторимо». Но больше нет ничего, вернее, ничего существенного, что мы могли бы сказать друг другу, разве лишь то, что наши кланы разделены непримиримой враждой и когда-нибудь схватятся не на жизнь, а на смерть (так оно и есть, правда?). Но тогда что же я делаю? И почему мы почти готовы улечься вместе в постель, прекрасно понимая, что в этом мире мы — враги? От скуки? Для забавы? По инерции? Наперекор всему?
Пусть я — деклассированный буржуа и ненавижу свой класс, но моя дама занимает завидное положение, утопает в мягких подушках сладкой жизни, доступной лишь крупной буржуазии, и при случае показывает зубки (да еще как!), бросаясь на защиту своих высоких привилегий и этими зубками, и холеными коготками изнеженной породистой кошки. И только из какой-то дерьмовой деликатности я записываю номер ее телефона. Знаю, что звонить не стану. Нет. И когда только кончится эта наша жизнь без движения к цели, без призывного сигнала боевой трубы!
* * * Рассказ жителя Алентежо, приехавшего на заработки в Лиссабон (коллаж)В Лиссабон я приехал вроде в 1957, а может, и в 1958 году, поселился у тетки, которая жила тогда в Гандарине[114]. Дома у нас дела шли хуже некуда, денег никак не хватало. Я работал от зари до зари, а получал 16 эскудо 80 сентаво в день. Вот тетка и сказала: «Как вы можете на это жить» — и тому подобное… А я тогда ей говорю: «Ах, тетя, что же мы можем поделать, если некуда податься? Никто нас нигде не ждет. Вот если б вы приискали мне местечко, было бы здорово». Месяца через два приезжает она к нам в деревню и говорит, что нашла место и мне, и отцу, и братьям. Ничего она не нашла. Пришлось мне, как старшему, искать место для всех нас, потому как у меня все же три класса, я мог и объявление прочесть, и сообразить, что к чему. Вот так…
Сам я поступил в москательную лавку. Зарабатывал 400 эскудо в месяц. Разносил товар, вел расчеты с покупателями на дому. Они звонили по телефону, мол, нужно то-то и то-то, и я относил. Младшего из моих братьев, младшего мужчину в доме (у меня есть сестра, она моложе его, но она до нас уже переехала в Лиссабон; мы еще и не думали сюда перебираться, а она жила тут у тетки), так вот младшего, который сейчас в газете работает, устроил я в писчебумажный магазин Эмилио Браги. Зарабатывал он тоже не бог весть сколько. Другой брат, чуть помоложе меня, тот поступил в аптекарский магазин в Кампо-де-Оурике. Получал и он гроши и был недоволен еще больше, чем я, и в конце концов попросил: «Слушай, не мог бы ты устроить меня в типографию?..» И я его туда устроил, а теперь он уже типограф высокого класса. Там он у них на хорошем счету, его любят, — ведь пришел-то он к ним совсем мальчишкой, понимаете? Как женился, так на свадьбу пришли все, кто у них там в газете работает. А один редактор, он потом ушел в другую газету, был посаженым отцом. Дамасо его очень любит, и вообще, скажу вам, он доволен, как я его устроил. А тот, младший, потом работал в дорожно-строительном управлении, да только там тоже мало платят, так ему снова пришлось искать место, и наконец он тоже поступил в типографию, где заведующим — двоюродный брат его жены. И вот теперь мы, слава богу, все хорошо устроились, верно? Отец мой умер, за ним и мать (оба уже здесь, в Лиссабоне), но мать мне наказала перед смертью, чтоб я, как только могу, заботился о братьях, что я старший и все такое, вот я и делал что мог, верно? Было у меня собрано немного деньжат на случай, если надумаю жениться. Но раз они оба младшие, а я дал матери обещание, то я его и исполнил по мере сил, помог тому и другому обзавестись собственным домишком.
Я, конечно, не прочь был потратить десяток-другой эскудо в субботу или на праздник, но я-то думал, что придет день, и они мне пригодятся, ну, когда-нибудь там, в будущем. Да вот потеряли мы родителей, и пришлось мне потревожить ту малость, что я скопил, и помочь братьям. Что и говорить, они моложе, и помощь им нужна, я изо всех сил стараюсь, чтоб хоть как-то заменить им отца. Жалеть его они, конечно, все равно жалеют, но когда кто-то помогает…
Они мне, понятное дело, благодарны, как же иначе, я ведь всякий раз, как есть возможность, спрашиваю: «Скажи-ка, в чем у тебя нужда? Тебе что-нибудь нужно? Может, то, а может, это?» И они чувствуют, понимаете? Я вовсе не раскаиваюсь в том, что так поступил. Если я и женюсь последним, так только потому, что не хотел жениться, пока у всех не будет все в порядке, ну, так сказать, со спокойной душой. Что мать просила, все я исполнил, да и по своей воле…
Мне тридцать четыре года, вернее, будет тридцать четыре 10 сентября. Вот тут-то я и подумал, не пора ли мне жениться. Верней, вот как: теперь можно и мне. Службу я отслужил: допризывную подготовку прошел в 10-м пехотном полку, потом сдал на классность в Коимбре, 2-й артиллерийский полк. Затем был переведен в 15-й пехотный полк при главном штабе в Томаре, где и закончил военное образование. Действительную службу прошел в Эворе (16-й пехотный). Семь месяцев всего я прослужил, потому как пришел запрос со справкой о болезни моей матери, все законно… А раз моя мать… ну, я же старший сын.
Моим братьям, тем пришлось поехать за границу. Один отправился на остров Тимор, а другой — в Анголу. А там уж как выйдет! Но я-то не поехал, из-за матери. Сердце у нее было больное, и делать она уже ничего не могла. Два шага сделает, сядет на приступочек и отдыхает, дальше не может. Отца уже не было в живых, братья — несовершеннолетние, я — старший, пенсия — ерундовая, недвижимости или какого другого обеспечения, сами понимаете, нет, а коли так, мою просьбу удовлетворили, я и вернулся…
* * *Меня, судя по всему, зовут Алберто Гашпар. Во всяком случае, я называю это имя, когда с кем-нибудь знакомлюсь. Да и в самом деле, если разложить на письменном столе документы, они подтвердят, что я — Алберто Гашпар: удостоверение личности, водительские права, билет профсоюза конторских служащих, билет члена страховой кассы, члена Автомобильного клуба и тому подобное; а если я восстановлю в памяти, что мне говорили родители с детских лет до зрелого возраста, если я сяду за штурвал самолета моих воспоминаний и полечу в замкнутом пространстве моего «я» над залитыми ярким солнцем ландшафтами и сумеречными картинами катастроф, в которые бессчетное число раз попадал и выбирался агент по рекламе, раб машины воздействия на общественный вкус, спутник ночных теней в конспиративных вылазках, — если я все это проделаю, то составлю, по сути дела, анкету, собственное досье в полном смысле слова. Но вне круга, охваченного этим словом, в серой мгле смутно проступают лишь какие-то непонятные знаки, всплывает сомнение в подлинности воссозданной личности, ощущение чего-то чужеродного, будто я рассказываю самому себе о ком-то другом… Когда же было, что я носил эти доспехи, то полиэтиленовые, то железные, и не боялся спутать себя ни с кем?!