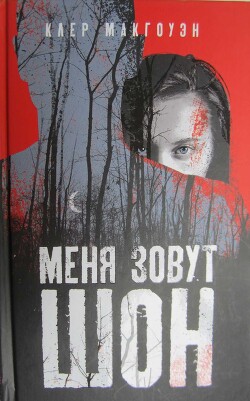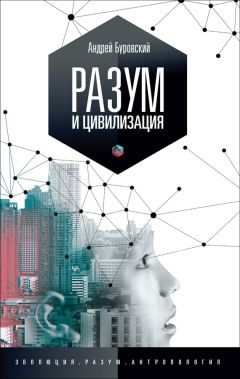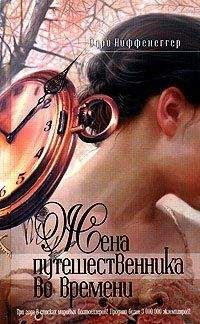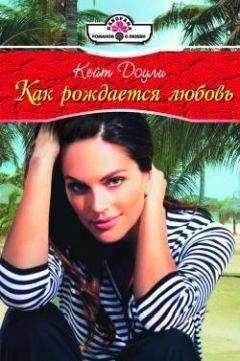Это могли быть мы - Макгоуэн Клер
– Заходите, – Оливия распахнула дверь, и Кейт ощутила решительную перемену ролей: обычно это она приглашала Оливию в свое пространство.
– Мне снять?.. – она вдруг побеспокоилась об обуви.
За дверью квартиры Оливии кремовым оазисом раскинулся ковер.
– Если не трудно.
Она стянула кроссовки и, несмотря на громкие жалобы, убедила разуться Адама. Оливия говорила что-то о напитках.
– Может, налить Адаму сока или еще чего-нибудь?
Глаза Кейт жадно метались по сторонам, пока уши занимал шум, производимый обоими детьми. Квартира Оливии была тихая и милая: картины, книги, ароматические свечи – полная гармония. А за столом, оторвавшись от поедания крошечными ручками ломтиков огурца, сидел ангелочек.
Впоследствии Кейт поняла, что ее посещала смутная мысль, будто с Делией что-то не так и есть причина не показывать ее людям. Когда она увидела девочку, ее словно ударили. Все было наоборот. Оливия скрывала ребенка от Кейт, потому что она была совершенна. Прекрасна. Шлем золотых волос, смущенная улыбка, джинсовый комбинезон с уточкой. Она раскладывала еду на тарелке перед собой, словно дама во время чаепития, и то, как она брала еду – здоровую еду! – уже говорило о ее уме и воспитанности.
– Ты мне не говорила… – выпалила Кейт, не подумав. «Ты не говорила, что у тебя такая красивая девочка».
Оливия подошла к дочери, встала за спинкой стула, на котором девочка стояла на коленях. Ее ножки в полосатых носочках! Розовые уши! Оливия обратилась к ребенку, не к Кейт.
– Милая, это – мамина подруга. А с ней – маленькая девочка и мальчик, с которым можно поиграть. Скажи: «Здравствуйте!»
– Здравствуйте, – послушно произнесла Делия. – Хочешь со мной поиграть?
Она говорила как ребенок на пару лет старше, и, словно чтобы подчеркнуть это неравенство, Адам – четырехлетний, а не трехлетний, как Делия, – дернул мать за руку и гнусавым голосом протянул:
– Я не хочу-у.
– Чего именно ты не хочешь?
– Мама-а! Я не хочу-у здесь игра-ать! Хочу домой!
Ну почему он такой? Почему нельзя быть просто милым, нормальным ребенком?
– Я не спрашиваю, чего ты хочешь, Адам.
С этими словами она наклонилась, чтобы отстегнуть Кирсти, едва не задыхавшуюся в ремнях коляски. Даже спиной она почувствовала, как Адам метнулся через всю комнату.
Оливия вяло запротестовала:
– Ади! Помнишь, как мы говорили о необходимости делиться?
Пирожное. Он бросился за пирожным, стоявшим возле тарелки Делии, лакомством, которое она должна была получить после обеда как послушная девочка. Внутри Кейт поднялась волна. Почему именно ей выпала такая жизнь?! Прижав к себе безвольно обвисшую и встревоженную Кирсти, она бросилась наперерез Адаму и схватила его за руку, прежде чем тот успел схватить пирожное.
– Нет! Адам, нет!
Адам забился в ее руках.
– Отпусти! Мама! Мне больно! Больно!
Но было поздно. Адам яростно размахивал свободной рукой, отчаянно вырываясь, пока Оливия пыталась убрать пирожное. Делия сидела слишком близко и кричала от страха. Секунду спустя ее крик сменился истошным воплем боли, когда ногти Адама, которые мать поленилась остричь, оставили глубокую борозду на идеально мягкой щеке Делии.
То, что Адам ранил Делию, обезобразил ее, оставив шрам на всю жизнь, было еще не худшее. Хуже всего было то, что произошло с Оливией. На секунду обе женщины замерли, Делия закрыла лицо ладонью, и сквозь пальчики начала сочиться кровь, а Адам забился за кресло. Именно забился, словно дикий зверек.
Кейт попыталась заговорить, но слова застряли в горле:
– Я… э…
У нее на глазах капелька крови упала на тарелку Делии, прямо на лицо паровозика Томаса. Оливия издала звук, как будто кто-то выпустил воздух из шарика.
– Господи! Оливия, прости, пожалуйста! Обычно он… он никогда…
Вот только Оливия прекрасно должна была понимать, что это не так, разве нет?
Сама Делия перестала кричать сразу же после первого вскрика и теперь тихо плакала.
– Ой-ой-ой! – причитала она, держась за ухо, словно не зная, где находится источник боли.
Оливия чуть покачивалась, осев на корточки вдоль стены.
– Это я виновата… Это я виновата… Девочка моя… Бедная крошка, девочка моя…
Кейт поняла, что нужно действовать. В сумке у нее, как всегда, лежали антибактериальные салфетки. Пристегнув Кирсти обратно к коляске, она достала салфетки и подошла к Делии.
– Дай посмотреть, милая. Ты же храбрая девочка, да? Да, ты храбрая, храбрая девочка.
Делия снова ойкнула. В голубых глазах стояли слезы.
– Он сделал мне больно.
– Да, он – плохой мальчик. Но скоро будет не так больно. Дай я тебя вытру.
Она промокнула салфетками нежное детское личико. Девочка перенесла это молча, хотя наверняка должно было жечь. Кейт вспомнила, что у нее в сумке есть и пластырь – вот во что превратилась ее жизнь! И она радостным голосом предложила:
– Гляди, Делия! Пластырь с Томасом! Давай приклеим его!
Веселый паровозик на щеке Делии выглядел трещиной на старой картине – одновременно мило и ужасно. Царапина была глубокая и все еще кровоточила. Кейт была уверена, что останется шрам. От этой мысли ее переполнила злость и, разгладив пластырь и едва сдержав желание поцеловать девочку в теплый лоб, она схватила Адама за руку и поволокла прочь. Мальчик все еще плакал.
– Я не хотел, мамочка! Ай! Мамочка!
– Ты вел себя очень плохо! Мы идем домой. Ты сделал больно хорошей маленькой девочке. Погляди на нее!
Крепко сжав его руку, она снова нацепила на запястье мальчика ремешок, не дававший убежать, и сняла коляску с тормоза. Кирсти выбилась из сил и обмякла, словно переваренная макаронина. Кейт снова обернулась, чтобы извиниться, но что она могла сказать? Оливия все еще сидела у стены, чуть покачиваясь.
Делия, с обезображенным лицом, слезла со стула и подошла к ней.
– Не плачь, мамочка!
Она обняла Оливию пухлыми ручками. Кейт выволокла своих детей на улицу и закрыла за собой дверь. За порогом она наклонилась к Адаму.
– Нельзя делать людям больно! Так делать нельзя! Ты меня слышишь?
Он заплакал. Было видно, что он сожалел о произошедшем и что, наверное, это было не нарочно, но он не знал, как это выразить и как перестать от злости бросаться на людей. И разве в этом он не походил на свою мать? Она понимала, какую боль причиняет окружающим: Оливии, Эндрю, самому Адаму, но никак не могла остановиться.
Когда Эндрю вернулся домой без четверти девять, она ждала его на кухне. Кейт не могла сидеть и просто стояла, обхватив собственные локти, словно в поисках поддержки. Эндрю, как обычно, был измотан поездкой. Он швырнул плейер на стол, не свернув наушники, хотя Кейт каждый вечер просила его так не делать.
– Привет, – коротко бросил он. – Господи, ну и денек! Да еще этот тиран… – он осекся. – Что-то не так? Дети?..
Она покачала головой. Дело не в детях. Во всяком случае, в том смысле, в котором имел в виду он. Она открыла рот, но поняла, что не в силах объяснить, чем же ее так расстроил этот день.
– Господи… С тобой все в порядке?
К собственному ужасу, Кейт поняла, что наконец, с двухлетним опозданием, плачет.
Прошло четыре дня. Кейт пережила их с невероятным трудом – непрерывный конвейер подгузников и рева. В субботу Эндрю был дома – Кейт никогда не бывала так рада, как при его возвращении вечером в пятницу, – и она уговорила его сводить обоих детей на прогулку. Точнее, она плакала до тех пор, пока он не согласился. С того дня, как она заплакала после похода к Оливии, Кейт открыла для себя слезы и использовала их во всех видах. Слезы злости, говорившие «не связывайся со мной». Одинокие слезы жалости к себе в туалете. Тихие слезы. Слезы, сотрясающие все тело. Слезы, заставляющие раскачиваться взад и вперед.
– На улице холодно. Не уверен, что стоит… – неохотно проговорил Эндрю, стоя в дверях с коляской Кирсти, на ступеньке которой пристроился Адам, уже начавший недовольно стонать.