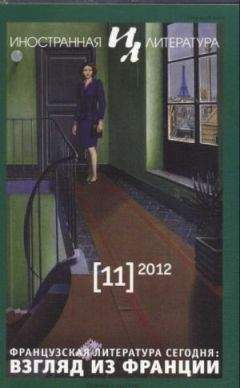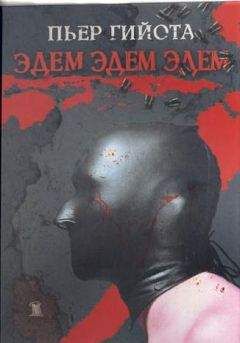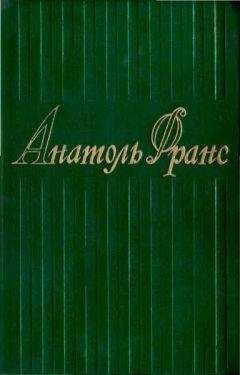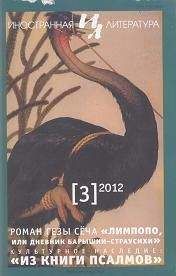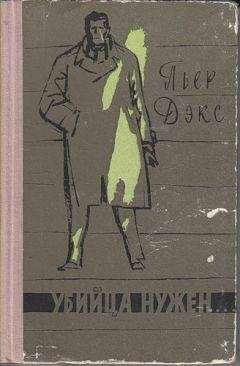Одиннадцать - Мишон Пьер
Они давно не виделись. А ведь знакомы были и, можно сказать, дружили еще с 1784 года, с того года, когда Корантен писал своих «Сивилл» в Комблё; Колло тогда руководил театром в Орлеане и поставил там спектакль по пьесе Шекспира, которую перевел и переделал, добавив сиропу, как умели в те времена, не то Дюси, не то сам Колло, а Корантен написал декорации и придумал костюмы; потом они много общались, поскольку высоко ценили друг друга — за что, скажу как-нибудь в другой раз; вместе с Колло он прошел всю революцию, ее лучшие годы, Колло по мере возможности представлял его новым властям, пока события не обернулись неожиданным образом, Колло на этом повороте высоко взлетел и вошел в силу, и они перестали встречаться.
Они обнялись. И, как при каждой встрече, в глазах у них вспыхнуло что-то родственное, будто каждый гляделся в зеркало, какой-то мрачный задор, причем у Корантена задора побольше, чем мрака, а у Колло на этот раз побольше мрака, чем задора. Он, по обыкновению, был несколько взвинчен: водка, горлопанство в Якобинском клубе, удаль, гонор, сострадательное радение о несчастных, которое пьянило его больше и дольше любого вина. Но в чем-то, как показалось Корантену, Колло изменился, он недавно вернулся из долгой лионской миссии, после проконсульского ража, после бойни [15]; он был облечен там абсолютной, безграничной властью, он видел бездну и Бога воинств. Обычный медный цвет его лица стал медно-красным, к мрачной веселости примешалась отрешенность. Все это сразу бросилось в глаза Корантену, а трое якобинцев между тем уселись за стол и накинулись на хлеб и сало; лучше всех устроился Проли — в роскошного цвета королевском не то епископском кресле, двое других восседали на стульях по обе стороны от него; Бурдон, не переставая жевать, бросал короткие и малопонятные фразы про заседание у якобинцев: что-то о Робеспьере, о Демулене и Дантоне — их песенка спета, о кордельерах — их не проведешь, о войне, о страхе и силе, о вражеских силах, снова о Робеспьере — это имя являлось каждый раз особняком, оно будто падало с неба или восставало из-под земли; Колло изредка поддакивал, Проли не проронил ни слова. Корантену налили кламарского вина, пили его из отнятых у аристократов бокалов, которые поставили перед своими вельможами рядовые санкюлоты. Бурдон быстро велел им исчезнуть и, когда они вышли, сказал, указывая на мешочек с костями: «Сожгите поскорее эту мерзость!» Дюкроке, успевший разжечь огонь в очаге, бросил мешочек в яркое пламя, он вспыхнул и истлел в один миг, будто клок пакли. Дюкроке смотрел на это с оттенком грусти или сожаления. «Ну и чего уставился?!» — прикрикнул на него Бурдон. Дюкроке не сразу понял, потом загоготал и пошел прочь. Еще какое-то время из нефа был слышен шум и голоса четверых лимузенцев, возившихся с лошадьми, потом и эти четверо удалились, звук их шагов затих под сводами.
Первым заговорил не Бурдон, а Проли. Он перебил Бурдона, повернулся к Колло и что-то быстро спросил у него вполголоса, Корантен расслышал два слова: «доверять» и «тайна». «Да», — громко и твердо сказал в ответ Колло и повторил несколько раз. Проли окинул Корантена взглядом, в котором смешивались отвращение и почтение — такие чувства он вызывал у многих, намеренно или нет, неизвестно, — и спросил:
— Хочешь получить важный заказ, гражданин художник?
Вопрос удивил и позабавил его. И даже заставил ощутить себя моложе.
Частных заказов он теперь не получал. Это не значит, что сидел без дела, отнюдь: он работал в Комитете по искусствам, для Народа, читай, для Давида, на Давида; по приказам Давида он изготавливал статуэтки Свободы, символические уровни Равенства [16], фигурки воинов в спартанских юбочках и красных колпаках, обетные приношения Жан-Жаку Руссо и прочие безделицы. Этими вещами занималась целая бригада, объединившая всех французских живописцев, точнее, всех, кто остался; Давид, державший нос по ветру, нуждался в рабочей силе: всех своих прямых соперников из поколения сорокалетних он устранил, упрятав их в тюрьму, зато привлек к работе обойму пожилых, допотопных художников: Фрагонара, Грёза, Корантена, а также и проворных юных честолюбцев: Викара, Жерара, Прюдона — так называемую школу Давида, мелюзгу, которой следовало остерегаться, как чумы. Корантена Давид побаивался, потому что Корантен был настоящим мастером, и презирал, потому что тот со своей тьеполианской выучкой состарился, вышел из употребления; однако он его использовал; он также знал, что Корантен боится Давида больше, чем Давид — Корантена, потому что Давид — член Комитета общественной безопасности и в этом качестве, наравне с одиннадцатью из другого комитета, ставит свою подпись под декретами; потому что к нему прислушивается Робеспьер, а сам он, впадая в некий транс, прислушивается к голосам и приглядывается к образам древней Спарты, откуда черпает свои модели, замыслы и прихоти, которые Корантен исполняет с серьезным видом, но про себя смеясь вовсю.
— Хочешь получить важный заказ, гражданин художник?
Да, он хотел бы — возможно.
Так он сказал. Почти не глядя на Проли, а бегло озирая все вокруг: бюст Марата, двууголки, лежащие перед владельцами, точно дары на алтаре, огонь, вино. Огонь почти потух. Проли, движимый чувством более сильным, чем отвращение и раздражение, какие он питал к Корантену, смотрел на него пристальным, стеклянным взором; Бурдон с Калло не раскрывали рта, но так же пристально глядели на него. Согласие его, сказал Корантен (но не Проли, а бюсту Марата или огню в очаге), зависит от трех вещей: под силу ли ему заказ, какова будет плата и какой срок отведен. Фламандский взор Проли оставался таким же стеклянным, он ответил, что срок — вчера или завтра, словом как можно скорее, счет не на недели, а на дни; затем неведомо откуда он вытащил кошель, открыл и опрокинул на стол, в стороне от пустых тарелок, туда, где недавно лежали останки святых; из мешка хлынули золотые монеты: голландские и португальские пиастры, луидоры — всего на глаз штук триста, и это сейчас, когда во Франции больше не было золота. Это только задаток, сказал Проли, по исполнении заказа он получит еще вдвое больше. Недурно, подумал Корантен, почти столько же заплатили ему за крупный заказ маркиза де Мариньи: убранство вестибюля в Лувесьенском замке во времена матушки-шлюхи Жанны Антуанетты де Помпадур. Мрачный задор загорелся опять — гонорар королевский, срок короткий, но Корантен уже привык работать быстро и был вполне готов состряпать за пару дней какую-нибудь жуткую бабу — аллегорию Равенства или Братства. «А что я должен написать?» — спросил он, на этот раз взглянув в лицо Проли, как смотрят на лакея. Проли уставился на него так же и проговорил пронзительным мелодичным голосом, в первый момент напомнившим голос Робеспьера: — Ты же умеешь писать богов и героев, гражданин художник? Так напиши собрание героев — таков наш заказ. Показать их богами, чудовищами или вообще простыми смертными — дело твое. Это будет картина «Великий Комитет Второго года». Комитет общественного спасения. Пусть они будут у тебя святыми, тиранами, разбойниками, принцами — как тебе угодно. Но изобрази их всех вместе, как братьев, на дружеском совете.
Повисла тишина. Огонь давно потух, только резкий свет фонаря падал на золото, рассыпанное в том самом месте, где недавно лежали древние кости. Лица тонули в тени. Внезапно за стенкой, в церкви Сен-Никола, захрапела и поднялась на дыбы невидимая лошадь — подкованные копыта молотами грохнули о пол конюшни в пустом нефе, из ноздрей вырвался мощный победный звук, похожий на хохот. Все четверо тоже расхохотались. Корантен, еще не отсмеявшись, встал, аккуратно сложил золотые монеты в кошель, затянул шнурок, взял в руку. И сказал: да.
II
Зачем был сделан этот заказ — гадают вот уж двести лет. Заказ, разумеется, политический, что ж, опустимся на минуту до политики. Расшевелим еще разок старый театр теней.