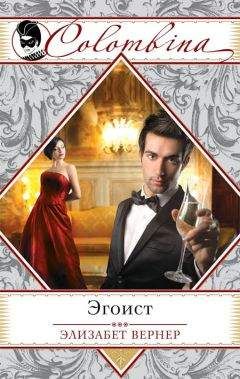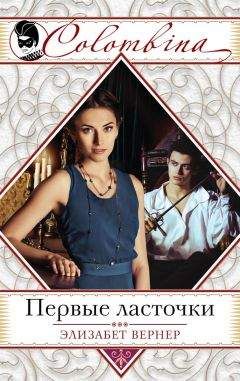Вернер Хайдучек - Прегрешение
Она еще в жизни никого не подводила — так ответила ему Элизабет.
— Все равно мое дело предупредить. Празднованию дан ход, телевидение уже интересовалось выигрышными моментами.
А потом, когда Элизабет стояла в дверях, он спросил, кому это она понадобилась, невестке, что ли, раз Регина снова вышла на работу. Для больных внуков нет ничего лучше бабушки.
— Я еду в Берлин, — услышал Раймельт в ответ, и, скажем прямо, для него это было чересчур. Дался ей этот Берлин, подумал он. Гардины у нее уже есть, пальто тоже, и туфли зеленые, и новая кофта из исландской шерсти, и шарфик сиреневый, а новые посылки все приходят и приходят. Дело, конечно, хозяйское, она имеет право получать подарки от кого захочет. Но в деревне, между прочим, тоже есть мужчины. А этот гамбуржец ему с первой минуты не внушал доверия. Если тебе что-то надо, изволь приехать сюда, а не околачивайся где-то там в Берлине, на незнамо каких улицах, в незнамо каких ресторанах. Это никогда добром не кончалось. Ни для одного, ни для другого. Вот как обстоят дела, и пусть она узнает, что он думает.
— Ничего такого нет, — сказала женщина.
Она снова вернулась в комнату.
— Право слово, ничего.
Теперь, конечно, ему следовало бы сказать: «Я не хочу, чтоб ты уезжала. Если ты уедешь, мне здесь тоже нечего делать. Деревня — это еще не все, и работа, в конце концов, тоже не все. Рано или поздно они посадят другого на мое место, а я буду сидеть дома и глядеть в стенку. Ты, может, и не поверишь, но мне страшно, и никто из здешних не поверит, но мне страшно».
Впрочем, ничего такого Раймельт не сказал.
Честно говоря, предстоящая поездка страшила Элизабет Бош. Ей казалось, что она все глубже увязает в чем-то, из чего нет пути назад. Ален писал, настаивал, просил. Он был робкий и какой-то беспомощный. Порой до смешного. Потом он снова казался ей очень сильным. «Горы где-то кончаются, а вот море...» Он так никогда и не договорил эти слова до конца. Но может, именно поэтому она снова и снова задумывалась о том, какое же оно, море, на самом деле: огромное, большое, бесконечное. Может, Ален и сам этого не знал, а может, и знал, но не было таких слов, чтоб описать море, как нет их для многого, с чем она встречалась на своем веку. Горы где-то кончаются, а вот море... Она знала, что рано или поздно сделает, как хочет Ален. Жена да убоится мужа своего, так она это заучила, так оно, пожалуй, осталось и по сей день. Но уехать она не уедет. Ни за что. Здесь у нее дети, здесь могила мужа, а возле могилы мужа кусок земли, который ее дожидается. Чего ради она за него уплатила, уж верно не для того, чтобы бросить.
— Ну что ж, желаю счастья, — сказал Раймельт.
— Верно, так оно и будет, — ответила женщина.
И ушла.
— В другой раз извести меня заблаговременно, — крикнул бургомистр ей вслед, но Элизабет уже не услышала.
При всех неувязках и сложностях в отношениях между двумя государствами и системами существовали и твердые установки. Каждый хотел жить, и каждый отыскивал средства к существованию. Берлин, снова и снова Берлин. Хотя никто не мог бы сказать, какая судьба уготована этому городу. Стена, она же государственная граница, достопримечательность для высоких гостей и для туристов — посмотрите туда, посмотрите сюда, — с одной стороны вся расписанная, с другой — бдительно охраняемая. Одни только кролики хорошо себя чувствовали в подстриженной траве ничейной земли.
Якоб Ален не верил в полное уничтожение человечества. Земля еще станет прекрасной, просторной, без изгородей. Но жизнь в новом тысячелетии его не слишком волновала. «Чтоб немножко солнца над Эльбой и вместе пройти жизнь до конца», — однажды написал он Элизабет. А она в ответ: «Опять ты говоришь глупости».
А сама украдкой достала школьный атлас детей, нашла эту реку и нашла этот город. Ей так хотелось узнать, как ему там живется и что значат слова: горы где-то кончаются, а вот море...
С помощью брата Якоб снял комнату в районе Пренцлауэрберг. Квартира принадлежала одной разведенной женщине. У нее в Западном Берлине жил дядя, а друг дяди был постоянным клиентом Бернарда Алена. Якоб платил за комнату в той валюте, которая больше устраивала женщину, и обе стороны были довольны.
Полуночник.
В двадцать четыре часа — здесь. Потом — туда, а через полчаса обратно. Между этим «туда» и «обратно» штемпель пограничного контроля. Ален уже не помнил, как он узнал об этом способе: то ли заметка в газете, то ли передача по телевизору, то ли разговор с товарищами в порту. Целую неделю сновать между пограничными столбами. А брату он сказал: «Знаешь, иногда мне кажется, что мы стоим на мосту, машем кораблю, но с корабля никто не машет в ответ». И брат на это: «Опять ты ударился в философию». Бернард Ален считал всю затею Якоба чистым безумием.
«Безумие — не безумие, — отбивался Ален, — но так оно будет».
«Только бога ради не делай глупостей, — предостерегал брат. — Ихняя полиция и суд церемониться с тобой не станут. А всего лучше — выкинь ты эту женщину из головы. Мало их, что ли, между Гамбургом и Мюнхеном».
Якоб смеялся над страхами своего брата. На вопрос, уж не собрался ли он часом жениться на этой женщине из Саксонии, отвечал беззаботно: «Само собой».
«А она, она-то за тебя пойдет?»
Так, напрямик, Якоб Ален еще ни разу ее не спрашивал. А чего им, собственно, ждать? Вот он и снял квартиру в восточной части города, чтобы обо всем договориться.
«Думаю, да», — отвечал он.
Квартира была расположена на втором этаже дома, окнами на задний двор. С вокзала Элизабет взяла такси. Комната была большая, высокая и темная. Со двора несло залежалыми костями. Сюда выходили подсобные помещения мясной лавки. С четырех сторон двор обступали грязные стены домов. Стены подхватывали каждое слово, сказанное во дворе, каждый удар по мусорным бакам и несли кверху. Элизабет всякий раз вздрагивала. Ей казалось, будто ее заперли здесь.
И это при том, что хозяйка оказалась душевной женщиной, не задавала лишних вопросов, сварила хороший кофе.
— Я целый день на работе, располагайтесь, как дома, — сказала она, дала Элизабет ключ и ушла.
Элизабет хотела сбежать, но не могла сделать ни шагу. Дева Мария, думала она, дева Мария. А это значило: почему я делаю так, как хочет он? Детям будет стыдно за свою мать. Тут она вздрогнула, потому что внизу у мясника взвизгнула какая-то женщина. Элизабет придвинула стол к окну, переставила стулья, порылась в своей большой сумке, достала оттуда все, что привезла: пироги, маринады, салями — и принялась есть, есть. Когда он придет, она прямо так и скажет: «Не морочь меня твоими фантазиями, черные чайки, синие чайки, ерунда какая. Где кто живет, там ему и хорошо».
У нее вдруг отлегло от сердца. Все очень просто, она — глупая баба, а Раймельт — умный мужчина. «Нечего тебе там делать». Он прав, так оно и есть.
Проверка на границе тянулась бесконечно, паспорт разглядывали дольше, чем обычно. Таможенник заставил выложить на стол все предметы из портфеля, спрашивал, не везет ли он журналов, кассет. Когда Якоб начал терять терпение, молодой человек строгим голосом ему сказал:
— Кто к кому едет, вы к нам или мы к вам?
Немало времени ушло у него и на то, чтобы поймать такси. Он хотел объяснить Элизабет, почему так припозднился, но ее не интересовало, что какой-то министр или партийный лидер произнес в здании рейхстага речь против чего-то или за что-то, во всяком случае неприятную для здешних властей, не интересовало ее также, хватает в Берлине такси или нет. Ей было худо оттого, что она так много съела, а от долгого ожидания — еще хуже.
Якоб Ален сел на один из жестких темных стульев, Элизабет подошла к окну и выглянула во двор. Оба были утомлены, словно после тяжелой и бессмысленной работы. Стояла такая тишина, что можно было слышать ход времени. А потом прозвучали эти слова. Якоб сказал их, и даже не ей, а самому себе сказал, не разочарованно, не огорченно, он просто констатировал:
— Есть на свете люди, про которых счастье не писано.
Только тут она повернулась к нему и взглянула на него. Ей вдруг показалось, что она должна защитить его, удивительное чувство, до сих пор она испытывала его только по отношению к детям. То ли правая рука Якоба без двух пальцев растрогала ее, то ли слишком большие уши, то ли ожило в ней воспоминание, как он шел по деревенской улице и земля словно раскачивалась у него под ногами. Во всяком случае, она начала прибирать разбросанные вещи.
— Ты, верно, проголодался, — сказала она.
А он:
— Наша первая размолвка.
— Боюсь, это все ошибка.
— Что?
— Да вот, у нас с тобой.
— Мы пока даже и не пытались.
— Мне уже не тридцать лет.
— Но и умереть ты пока не умерла.
Якоб ел безо всякого аппетита, хотя на улице испытывал ужасный голод. Потом они сидели в нише перед высоким окном. Стемнело, но они не зажигали огня. Так каждый мог оставаться сам по себе, хотя их и тянуло друг к другу. Начался дождь, капли стучали по крышкам мусорных баков, и Элизабет думала: «Здесь бы я жить не смогла». Она не сообразила, что это вовсе не ее слова, а слова Алена.