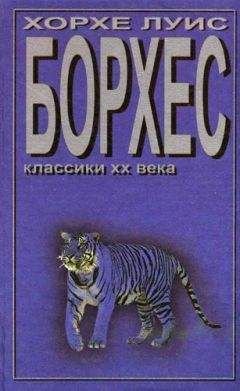Ирина Мамаева - Земля Гай
— Да твоя это, твоя внучка зовет тебя до себя! Тебе письмо–то! Кумекаешь? — все больше раздражалась Михайловна.
— Мне сегодня письмо пришло?
Но выхода не было: Михайловне пришлось все заново объяснять.
От сына и внуков Кузьминичны не было известий давно, несколько лет. Кузьминична, если вдруг про них вспоминала, что бывало, понятно, редко, вздыхала: «Господь им судья» и немного радовалась, что у нее вообще на свете хоть кто–то родной есть, и снова забывала о них. Михайловна вспоминала о них чаще и немного по–другому: «Суки, бросили родную бабку, а мне тут возись с ней!..»
Не было, не было вестей — да вот пришло письмо. И теперь это была их цель, их мечта — уехать отсюда: не знать, не видеть, забыть. Хоть перед смертью пожить по–людски, надышаться…
— Да давно оно пришло, не сегодня. Твоя внучка Ольга, от сына твоего… как там его?.. в общем, внучка твоя тебя к себе зовет. Правнука тебе хочет родить.
— Внучка? Правнука? — расцвела Кузьминична. — Господи, радость–то какая — у меня внучка есть! Господь — он все слышит, всем воздает! Шо ему…
— А ты меня с собой позвала — помнишь? — Михайловна с подозрением уставилась на Кузьминичну.
— Куда?
— На Кубань, к внучке, — Михайловна стянула с Кузьминичны очки, попыталась надеть их — не попала дужками за уши, сидела и просто вертела в руках.
— Господи–суси, я туды поеду? — разволновалась Кузьминична.
— Мы поедем — ты и я! Я тебя не брошу, ты же одна не доедешь: потеряешься где–нибудь. Или своруют у тебя деньги, убьют и закопают у железнодорожных путей.
— Убьют?! Ты же не бросишь меня? — Кузьминична схватила Михайловну за руку.
— Знамо дело, не брошу. Как ты могла так худо обо мне подумать?
— А когда поедем? Завтра? Свят–свят–свят, мне страшно, Михайловна…
— Чтобы ехать — деньги нужны. Мы уже год с пенсии копим. Шутка ли — три тыщи километров! Сколько денег надо!
— Так она пишет — хату продать. С божьей помощью.
— Хату! Кто твою хату купит? Кому сюды ехать надо — ни магазина, ни почты нету! Вот мы и копим, штоб, значит, не с пустыми руками, не бедные родственницы, а две полноценные пожилые женщины.
Кузьминична пыталась осмыслить новости. Михайловна наконец нацепила очки и стала отслюнявливать бумажки, бубня себе под нос счет. Досчитала и торжественно выложила на стол пачки: пятидесятирублевые, сторублевые, пятисотрублевые — и даже одну тысячную — бумажки:
— Вот.
— А этого хватит? — радостно спросила Кузьминична.
— А кто его знает… — Михайловна задумчиво подперла щеку рукой. — Я примерно знаю, сколько стоят билеты.
— Примерно?
— Я вот думаю, может, у Егорки спросить? Он все ж таки мне родственник, почти внук. И потом, он молодой, в городе жил…
Решать, конечно, что–то надо было. Письмо пришло уже почти год назад. Может, эта Ольга уже давно родила и нашла другую няньку? Или ей на работе дали декретный отпуск? Может, она давно уже забыла о приглашении, да и о бабке вообще? Надо было срочно что–то решать — надо было ехать.
Кузьминична преданно смотрела на Михайловну. Она уже связала новость с предыдущими разговорами — а говорили об этом бабки между собой постоянно — и стала успокаиваться, рассеянно смотрела по сторонам.
— А это шо за хлопец?
В полстены у Михайловны висел портрет Ленина.
— Это Ленин. Што, чай позабыла уже все, как в школе юными ленинцами были, знамена таскали?
— Будь готов — всегда готов! — радостно подхватила Кузьминична: события многолетней давности иногда очень ясно всплывали у нее в голове, — Ленин — вождь. И в конторе Ленин висел, и в амбулатории, и на площади перед школой Ленин бронзовый стоял, да?
Михайловна обрадовалась, села на любимого конька:
— Помнишь? А как раньше хорошо было, и все знали, зачем живут? Чтобы строить будущее. Все хотели работать — вставать рано, чтобы как можно больше успеть. Я же сюда с Ленинградской области еще до войны ребенком с родителями приехала. Страна позвала. Нужны мы были своей стране. А после войны — и подавно. Такое хозяйство надо было поднимать. И все работали как один. Как же радостно было работать! До седьмого поту! Все были молодые, сильные, веселые… Голодные, злые и жадные до работы… Все для страны, для народа, для Сталина, за дело Ленина… А здесь все день ото дня становилось краше: утром сосны — днем бревна — вечером первые дома, утром болото — вечером широкая дорога, утром — пустырь, вечером — биржа и ровные ряды стволов… Знаешь, какая у меня мечта еще с самого детства была? Вытащить дедушку Ленина из прошлого, привести к нам, сюды, ну, в настоящее, и показать, как мы хорошо живем…
Но Кузьминична мало чего понимала из бурной речи Михайловны. Глупо улыбаясь, она смотрела в себя, на свои цветочки. Заметив этот взгляд, Михайловна осеклась:
— Ленин это, запомни — Ле–нин!
— И мы для него строили леспромхоз?
— Да не для него, а для страны, для других людей. На юге–то леса нет, а строить дома и дрова, чтобы печи топить, надо. А Ленин нас всему научил.
— Он был учитель?
— Ну почти. Вождь.
— А он к нам сюда приезжал побачить, как мы все хорошо зробили? Ну… ты говорила… хотела ему показать…
— Конечно, приезжал, — Михайловна снова задумчиво подперла голову
рукой, — все осмотрел, все бревна сосчитал… А потом велел нам с тобой два шага вперед из шеренги сделать, положил нам руки вот так, — она положила руку на плечо Кузьминичне, — на плечи и сказал: «Молодцы, бабоньки, с вами мы коммунизм за три пятилетки построим».
Глава 7
— Так я и знала! — Михайловна уперла руки в боки. — И шо мы тут сидим?
Зайдя в дом после вечерней дойки, бабка обнаружила теплую компанию: на кухне вокруг стола сидели Кузьминична, Васька и Егорка. На столе стояла початая бутылка водки, вареная картошка и луковые перья. Кузьминична, наверное, при помощи Егорки — или Васьки? — стопила печь. В доме пахло теплом и хлебом, свесившаяся над столом слабенькая лампочка объединяла людей вокруг стола, спасала от сумерек за окном.
— Так это… — Кузьминична развела руками, — вот соседушка заглянул, — махнула рукой на Ваську, — да Егорка забежал. Ты же сама хотела о чем–то… запамятовала я… спросить.
— А, Михайловна, мэ комам тэ выпьям бравинты, выпьем водки, брось гундосить, ну, ептыть, праздник же сегодня — пенсия. Надо же по–людски отметить? — вступил Васька, который уже был пьян и всех любил. — Садись, яхонтовая моя, посидим, потолкуем по–соседски, — он даже место ей уступил, перебрался на неудобную скамейку.
Егорка был бодр, и не понятно, пьян или нет. Он внимательно смотрел на Михайловну.
— Допекли вы меня, алкоголики, до печенок… Вот напасть–то! — Михайловна сходила переоделась в сухое и подсела к ним:
— Ну, Васька, гляди у меня. Стыришь что–нибудь — больше близко к дому не подпущу!
Васька ласково улыбался.
Егорка облегченно вздохнул и разлил:
— Чё ты спросить хотела, Михайловна?
— Да… ничего… потом…
— За что пьем? — Васька подхватил свою стопку. — Давайте — за счастье, за састыпэн — за волю?
— На хрена нам твой сасьтипен! — Михайловна все еще сохраняла недовольный вид. — Вот уже где твоя воля, — она провела ребром ладони по горлу, — и бах твой[1] — свобода! Нахлебались уже, говна–пирога! Што в стране творится, куда катимся?
— О, пошла Михайловна митинговать, — развеселился Егорка, опрокинул один свою стопку, смачно зажевал лучком. — А чё ж, бабка, обратно все повернуть, бабло у всех отобрать, фуфайки выдать — и на лесоповал?
— А што тебе — лесоповал? Я всю жизнь лес валила, трелевала, грузила, это потом уже диспетчером на УЖД сидела, бухгалтером в конторе. Зато тогда мы нужны были своей стране, партии! Светлое будущее — для вас! — строили. Ты сопляк еще, не понимаешь, шо это такое, когда ты работаешь и знаешь, што ты нужен, што ты дело делаешь, строишь… свершаешь…
— Ну, блин, ты даешь — «свершаешь»! — стал заводиться Егорка, пропустив мимо ушей «сопляка». — Все вы стране тогда типа нужны были, да? В лагерях. Полстраны в лагерях сидело — светлое будущее хреначили. Не замочили сразу всех, потому что они «нужны были своей стране». Мне, блин, дед, пока жив был, много чего рассказывал. Про ББК[2], например, чё такое, когда чувак вчера был «друг народа», а сегодня уже — «враг народа». Херня какая, а?
— Полстраны в лагерях… Господи… — жалобно протянул Васька вслед за
ним, — ничё тогда жизнь человеческая не значила…
Все вспомнили, как в сорок шестом поздней осенью в поселок привезли белорусов по пятьдесят восьмой статье. Благо лагерь уже был. Уголовников в срочном порядке куда–то вывезли. Но это не помогло — людей привезли больше, чем могли вместить бараки. Тогда их погрузили в вагоны узкоколейки — и на работу в лес. Без фуфаек, без рукавиц. А поздняя осень на Севере — это зима. На следующий день заключенных было меньше, чем коек…