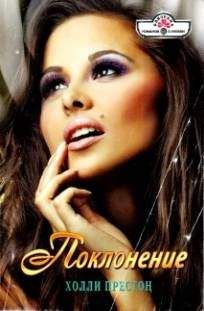Иван Зорин - Дом
Так Михаил Михолап стал Борисом Барабашем.
Жить на два дома никого не хватит, и постепенно Михолап прижился в новом месте. Он смотрел чужие сны, а когда получал письма, отвечал так, чтобы не заподозрили, будто Борис Барабаш умер. О своей прежней семье он вспоминал лишь изредка, когда вдруг замечал, что у жены исчезла с плеча родинка или видел в зеркале поседевшие виски. Были и другие отличия: его жена слышала, только когда говорила, а барабашевская говорила, только когда слушала. Но Михолап, как и раньше, убеждался, что зубы лучше пересчитывать языком, чем на ладони.
За бывших домашних он не волновался — годами не замечая, его не хватятся.
Каждый бездельничает по-своему, все работы похожи друг на друга. Михолап служил теперь в рекламном бюро, где продавал лотерейные билеты. «Ума палата — божье наказание!» — отпускал шутки начальник, про которого шептались, что он без выгоды даже не плюнет, и, качаясь, как водоросль, Михолап согласно кивал.
На затылке у него не хватало клока волос, и он уже не знал, кто из двоих живёт, а кто прыгнул с моста.
Но постепенно плешь перебралась на макушку, слившись с залысинами, сделалась незаметной, и Михолап понял, что люди, как змеи, множество раз становятся другими, входя в одну воду и дважды, и трижды — каждый день.
Прежняя жизнь слезала, как ушибленный ноготь, а под ней всё больше проступала чужая судьба. И Михолап всё чаще видел перед собой бесконечный тупик. «Чтобы думать о смерти, — успокаивал он себя, — надо твёрдо стоять на ногах, чтобы размышлять о жизни, нужно быть при смерти». Борис Барабаш стирал себе сам, и Михолап, вынимая бельё из стиральной машины, пришивал оторванные «с мясом» пуговицы и развешивал на верёвке разнопарные носки.
Время металось по клетке, как попугай, бормоча расхожие истины. В новом воплощении действовали старые законы, Бориса Барабаша не замечали так же, как Михаила Михолапа. По утрам он варил себе кашу, а с женой вёл себя, как сапёр на минном поле. И всё равно нарывался. Слушая их тихое переругивание, сын упрекал в безденежье, тесной квартирке, мелких, как сыпь, ссорах. Как было объяснить, что виноват не быт, а бытие, как гренка бульоном, пропитанное злом. Каждый говорит с миром на «ры», пока не наденут смирительную рубашку. Михолапу вспоминались окрики матери, за столом бившей его по немытым рукам длинной суповой ложкой, мучительное вычёсывание непослушных, с колтунами, волос и бесконечная, до стука в висках, зубрёжка стихов, которых не понимал. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века, всё будет так, исхода нет…» Школа навязла в зубах, институт засел в печёнках. Впрочем, теперь кто-то забирал его воспоминания, как и он сам присваивал память Бориса Барабаша.
Порой ему казалось, что он родился в сорочке, но повитухи её украли, и счастье, дразня, бежит впереди него с высунутым языком. Оно переставляет местами его будущее, сбивая с пути, и он бредёт не по той дороге. У него воровали завтра, подсовывая заплесневевшее вчера, он переживал заново давно изжитое, словно ребёнок ел пережёванную кем-то тюрю. Его сегодня было вчера для Бориса Барабаша, за которым он шёл след в след. Но он больше не роптал, что стал им, ведь это будущее ничем не отличается от другого. Михолап чувствовал, что всё, могущее с ним случиться, уже произошло, и события будут лишь повторяться, как в дурном сне.
По воскресеньям Михолап слушал проповеди о. Мануила и всё больше ощущал себя чужим. «Возлюбить ближнего, как себя, значит и себя возлюбить, как ближнего, — рассуждал он, горбясь на стуле, — а любить в себе постороннего — значит отречься от “я”».
Был вечер, оконная рама билась на ветру, и он смотрел, как в потемневшем небе переворачивались стаи ласточек, будто кто-то выжимал сырую простынь.
Жена старела, у сына ямочка двоила подбородок, ему нужно было точить зубы, и Михолап, глядя на их перебранку, опять вспоминал детство.
«Женщины дают жизнь, — криво усмехался он, — и они же её губят».
На него обращали внимания не больше, чем на мушиные следы.
Вспоминал Михолап и стихи, заученные когда-то. Они понимались только теперь, их смысл доходил с опозданием, как свет от исчезнувших звёзд. Тогда он поворачивал обратно, собираясь пройти назад расстояние длиною в жизнь, и тут чувствовал, что его ноги начинают расти с головокружительной быстротой, что, глядя на них с высоты, он вот-вот коснётся неба, не в силах сделать гигантского шага.
Казалось, он вспомнил то, что другие забыли, и не понимал того, что знали все.
Была ночь. Михаил Михолап, сплюнув, загасил окурок о подошву. «Ночь, — подумал он, — ночь, ночь…» Поёжившись, он крепче запахнул пальто. От холода его мысли стали космически ясными и, потеряв привязанность к его маленькой жизни, стали сами по себе. Он думал: «Окружающий мир — это разница между нами и остальным миром. Мы видим только разницу, только то, что не есть мы. И когда мы умрем, то не перестанем быть, и мир тоже не исчезнет, просто сотрётся разница, и мы станем невидимы друг для друга».
Он уже шёл по мосту. «Смерть, — думал он, — смерть, смерть…» Прислонив бумагу к граниту, он попытался записать свои мысли, но буквы скакали на неровностях, как телега на ухабах, а ветер трепал листок. Отшвырнув записку, Михолап сосредоточенно вскарабкался на парапет, застыв над бездной.
Себя за волосы не вытащишь, а спасителя в мире нет. Михаил Михолап умер, не успев понять, что такое смерть. Его несла река, а ветер, развернув записку, гнал по булыжной мостовой криво начертанные стихи: «Умрёшь, начнётся всё сначала, и повторится всё, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь…»
Подтвердились худшие предположения. Соломон Рубинчик всё уладил, и дом определили под снос. Объявления, напечатанные крупным шрифтом, были расклеены у каждого подъезда. А жильцы, проходя мимо, смеялись. Во дворе уже стояли бульдозеры. А они ждали новых квартир.
− Значит, так вы относитесь к родному очагу? — уперев руки в бока, угрожающе начал Савелий Тяхт.
− Что ты имеешь в виду? — растерялись Кац.
− Политику в отношении дома.
− О, нет, речь идёт о чистой экономике!
Сдвинув брови, Савелий Тяхт уставился взглядом тяжёлым, как гробовая доска:
− Экономика — это политика, которая сводится к тому, чтобы набить карман!
Кац переглянулись.
− Можем поделиться.
− А, Кац и я! Компания «Акация»? А поливать её будем чужой кровью?
Он достал пистолет. Кац отпрянули, а Савелий Тяхт стрелял в них, шевеля губами: «Я вас так любил, так любил…»
Но это было во сне.
«Где выход? — звякая ложкой о зубы, думал он за обедом. — Где выход?» Жизнь брала своё, а Савелий Тяхт, растирая слёзы, грозил ей кулаком, точно когда-то − мальчишке из-за спины матери. Постаревший, с бородой, как у Черномора, он перечитывал домовые книги, которые всё больше походили на истории болезней. В них перечислялись события, имена, даты вселения и выезда, и эти записки служили мемориальной доской на доме. «В книге есть прошлое, в которое можно вернуться, отсчитав страницы назад, и есть будущее, в которое можно заглянуть, пролистав настоящее, − думал он. — В жизни такого нет. В ней нет прошлого. Нет будущего. Это потому, что книга после написания принадлежит уже свершившемуся прошлому. А жизнью наполняется лишь при написании, когда похожа на дневник». Работая с жильцами, Савелий Тяхт всё глубже увязал в болоте мизантропии, его раздражала их привычка говорить эвфемизмами, не называя чёрное чёрным, а белое белым, выводили из себя их самоуверенность, самодовольство, умение выходить сухими из воды, бесила их манера делать выводы задним числом, оставаясь всегда правыми. «А может, правда, как и жизнь, функция времени? — думал он, вспоминая Матвея Кожакаря. — Может, в уравнении жизни у правды свои граничные условия?» Проговорив эти мысли вслух, он недовольно фыркал, шёл на кухню, где заваривал крепкий чай с мятой, чтобы смыть неприятный привкус, оставленный ими во рту. И при всей своей проницательности он не допускал мысли, что путает своё правдолюбие с элементарной завистью, что всё его неприятие окружающих объясняется собственной неспособностью выживать. Подперев кулаком подбородок, Савелий Тяхт расставил на столе оловянных солдатиков, вспоминая мальчика, с которым в них играл, и по его щекам текли слёзы.
Детский дом размещался в деревне, и Изольдович часами наблюдал, как, смешно кудахча, по двору бегали бескрылые куры. Чтобы сэкономить время, повар выносил им корм, а заодно рубил одной голову, и пока она продолжала носиться, брызгая кровью, оставшиеся клевали зерно. Изольдовичу делалось жутко, он отворачивался, но какая-то неведомая сила в следующий раз опять приковывала его к окну. Учился он хорошо, схватывая всё на лету, без труда угадывая, что скажет учитель, едва тот открывал рот. В классе Изольдович вспоминал, как делал с Савелием Тяхтом уроки, слушая про уравнение, которому подчиняется жизнь. «Жизнь — неравенство, решая очередную задачу, вздыхал Тяхт, − смерть — уравнение». Моросил дождь, и, вертя головой, Изольдович целил тогда стекавшей по стеклу каплей в стаю ворон, а теперь, представляя нескладную, сгорбленную фигуру с длиннющей бородой, переворачивал тетрадь и рисовал на обложке дом, стоявший прямым углом. С возрастом в нём проснулись Дементий Рябохлыст, который прятался в детство, и Викентий Хлебокляч, родившийся сразу взрослым, эти две силы тянули в противоположные стороны, готовые разорвать, и он метался между ними, как в горячке, опасаясь пойти в мать.