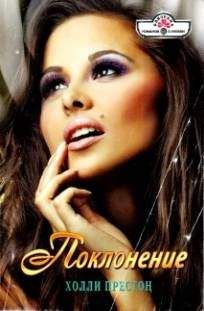Иван Зорин - Дом
− Мальчишке отец нужен, − втолковывал он в прихожей явившейся Изольде.
— А мать? — сузила она глаза.
− Да, пойми, я из него сделаю мужчину.
— Откуда тебе знать, что это такое? — сделав резкое движение, она в дверную щель разглядела сына, который расставлял на полу оловянных солдатиков, и недобро ухмыльнулась: − Вместе играете?
Савелий Тяхт развёл руками:
− Тебе не понять.
Изольда смерила его презрительным взглядом, а выйдя за порог, обратилась к адвокату, который жил в соседнем подъезде и накануне опустил в ящик ламинированную визитку: «Соломон Рубинчик. Ваш до гроба». Он слушал её с жадным вниманием, будто кукушку, отсчитывавшую годы, ловил каждое слово, облизывая губы, чмокал, точно пробовал его на язык, потом взял аванс, и дело завертелось. А вместе с ним — и другие дела. Как некогда эпидемия гриппа, от которого умерла мать Савелия Тяхта, дом охватила судебная лихорадка. «Судитесь, да не будете засудимы!» − встречая клиентов, пожимал руки Соломон Рубинчик, а, прощаясь, потирал свои. Ходил он в одних и тех же замызганных туфлях цвета почерневшего серебра, раздвигал мизинцем паутину в ушах, которую не успевал выстригать, раскладывая по кучкам, пересчитывал по субботам деньги, не считая это за работу, и на душе у него всегда стояла поздняя осень. У Соломона Рубинчика были водянистые глаза, которые постоянно взвешивали, измеряли, вычисляли, а если находили недостойным внимания, сонно прикрывались. Теряя интерес, Рубинчик отворачивался, понуро плетясь прочь, точно гончая, взявшая не тот след и виновато повиливавшая хвостом. Его стараниями иски в доме нарастали лавиной, все судились со всеми, и каждый в душе считал себя правым. Казалось, даже старухи на лавочках, не находя общего языка, говорили через адвоката. Делили квадратные метры, детей, машины, гаражи, старики делили могилы, а дети − песочницу. Обиды множились, порождая обиды, и сутулую, с покатыми плечами фигуру Соломона Рубинчика, который двигался крайне осторожно, глядя под ноги, чтобы пяткой не наступить себе на носок, видели в пяти местах сразу. «Только Кац не хватает», − ворчал Савелий Тяхт, вспоминая, как соседи раньше делились хлебом. И накаркал. Лёгкие на помине, Кац оказались легки на подъём. Уезжая, они оставили за собой квартиру, в которую, уйдя от мужей, временно въехала Изольда, и теперь, звоня в двери, возобновляли старые знакомства. «Вспомните, как жили, − заводили они, едва переступив порог. — Этот вечно пьяный Академик… Мечтатель Кожакарь, не нашедший себе места. А грязь? А голубятни? Да что говорить, воздухоочистителей не было, и, справив нужду, жгли бумажку!» «Зачем же было возвращаться?» − недоумевал Тяхт. А тут поползли слухи, что Кац вернулись не с пустыми руками, что они купили землю под домом и собираются всех выселить, чтобы на его месте построить торговый центр. Дом переполошился. Вылетев из своих скворечников, жильцы превратили двор в птичий базар. А успокоились, когда Кац заявили, что выселения не будет, а если и будет, то все получат новые квартиры. «Снос дома не окупается», − приводили они главный аргумент. «Когда оккупация, всё окупается», − бормотал под нос Савелий Тяхт, предчувствуя, что рано или поздно Кац оседлают дом, как покорную лошадь, заставив всех играть по своим правилам. Подняв руку, он попросил, было, слова, но вокруг уже бешено аплодировали, точно били мух. А громче всех — Изольда, у которой хлопали даже ресницы, не скрывая светившейся в глазах радости оттого, что она недавно выиграла процесс. Выиграла в первом же слушании − Соломон Рубинчик знал своё дело. И когда Изольдовича вернули матери, которая не смогла простить ему обиды, он отправился в детский дом.
В квартиры провели Интернет, на балконах медалями повесили спутниковые тарелки, и весь мир оказался на ладони. Теперь видели собеседника, не отрываясь от экрана. Но разговоры не клеились. И тут открылась страшная тайна, что телевизор интереснее. Спасаясь от одиночества, Савелий Тяхт проводил сутки на форумах, завязывая случайные знакомства. Ему много писали. Но не те, кого он искал. А те, кого искал, молчали. И тогда возвращалась тоска. Домовые книги он совершенно забросил. Они пылились на стеллаже, перевязанные бечёвкой, обтрепанными листами напоминая взъерошенного птенца, пока тоска не подступила с такой силой, что однажды, коротая глухой осенний вечер, когда по двору бегала одинокая лайка с завернутым набок хвостом, он ни выставил их в Интернете, отправив в мир, как когда-то запускал в него голубей. Шли годы, как чёрствые крошки, хрустя на зубах, превращаясь в густую, липкую жижу. Савелий Тяхт по-прежнему встречал в одиночестве хмурые утра, коротал дни, пересчитывая квартиры в доме, как свои морщины, говоря с жильцами на их языке, постепенно забывал свой, а вечера проводил в компании собственной тени, пока однажды домовые книги, запущенные в Интернет, не вернулись отзывом, бившим, как бумеранг: «Что это за дом? Для умалишённых? Или населён извращенцами? А может, больная голова рукам покоя не дает? Похоже, автор не покидал глубокого подвала в психбольнице, куда попал в раннем детстве. «Пусть живёт в своём доме, − спускается к нему врач. — Наш-то холодный». Вчитываясь в строки, Савелий Тяхт уже сам не знал, где правда. Ему чудилось, что он, действительно, сидит в тёмном, пропахшем луком чулане, сквозь дощатый потолок которого едва пробивает свет, что его окружают глубоко больные невропаты, а он — один из них, раз повсюду видит ложь. «Почему всё устроено не так? — спрашивал он себя. — Почему идёт в одну сторону? И почему не в нашу?» Лысина у Савелия Тяхта, бывшая когда-то со сложенный носовой платок, непреклонно увеличивалась, словно этот платок разворачивали, а борода росла, точно на неё перебегали волосы с головы. В зеркале он не узнавал себя, несколько раз порываясь поговорить с отражением, открывал рот, но говорить было не о чём. Ему было всё труднее и труднее нести свои годы, после ночного дежурства у него уже ныли кости, и, задернув шторы, он бросался на диван — скрипели пружины и поднявшаяся пыль долго кружила, поблёскивая в солнечном луче, одиноко сочившемся сквозь щель в занавеске, возвращала его в прошлое, когда деньги считали в рублях, а не в тысячах, растекавшейся, как мыло, весной надевали на валенки резиновые калоши, и продавцы вместо кассовых аппаратов щёлкали на счётах. Тогда, ребёнком, Савелий Тяхт сидел после школы дома, отдав двор во власть Академика, верховодившего местной шпаной, рос тихим «ботаником», которому книги заменяли всё, но не чувствовал себя обделённым и несчастным, не понимая, отчего так грустит его однокашник, живший с ним в одном доме и с первого класса сидевший за одной партой.
− Разве тебе не скучно? — спрашивал тот после уроков, с тоскливой небрежностью собирая портфель.
− Нет, − удивлялся Савелий.
− А серое воскресенье? Просыпаешься, а заняться нечем?
Поначалу Савелий подозревал розыгрыш, но печальный взгляд влажно блестевших глаз, его исключал. И Савелий смущённо доставал из портфеля бутерброд, аккуратно завернутый матерью, ломая, предлагал половину, и они молча жевали, пока не оставались в классе одни. А потом вместе брели домой и, простившись во дворе, расходились по своим подъездам. Так тянулось до выпускного вечера, куда Савелий явился в узких, вышедших из моды брюках и ушитом, с чужого плеча, пиджаке, а его однокашник не явился вовсе. И он, как и весь класс, как и вытянувшиеся в струну учителя, с каменными лицами вручавшие отпечатанные на вощёной бумаге путёвки в жизнь, опять его не понял. А сейчас, спустя множество лет, сверкавшая в воздухе пыль напоминала ему другую — стоявшую столбом в щелистом сарае, с перекрещивавшимися пучками света, где на крюке, вбитом в матицу, висел его однокашник. И теперь Савелий Тяхт понимал его, раньше других получившего путёвку в смерть, может быть, даже больше, чем хотел, как понимал и то, что для светлой головы надо, прежде всего, выбить из неё всю дребедень, которой пичкают в школе. Замученный воспоминаниями, запертыми внутри, как в чулане, оттого что ими не с кем было поделиться, Савелий Тяхт выходил в тёплый июньский дождь, надеясь от них освободиться, словно струйки воды, стекавшие по волосам, смоют и то, что находится под ними. И однажды он понял, что секрет спокойной старости состоит в том, чтобы заключить честный союз с одиночеством. С тех пор ему стало легче. Зацепив ногой табуретку, он выставлял её на балкон, усаживаясь на неё, как в детстве, по-турецки скрестив ноги, наблюдал, как пламенел закат, как зажигались и гасли окна, как переезжали из квартиры в квартиру, точно разыгрывая шахматную партию, как судачили внизу старухи, жгли костры бомжи, он выкуривал трубку за трубкой, пока его не прогоняли сгустившиеся сумерки. И ему казалось, что его окружают люди без внутреннего мира, которые только думают, что думают, повторяя чужие слова, они смеются чужим смехом и плачут чужими слезами, и не понимают, зачем делают то, что делают, как не понимает и он, зачем ведёт их домовые книги. Савелий Тяхт гнал от себя эти мысли, но они возвращались, неотвязные, как августовские мухи, и он не мог взять в толк, куда плывёт дом.