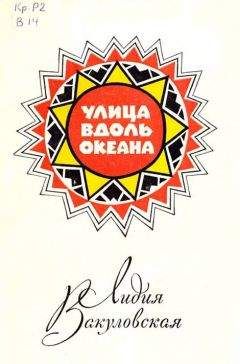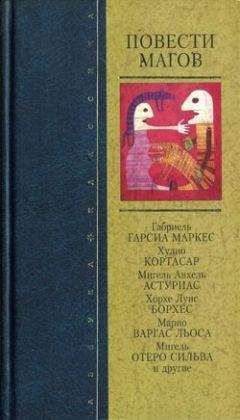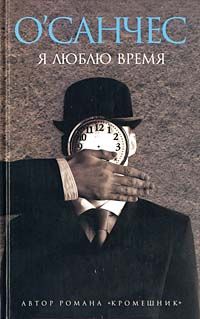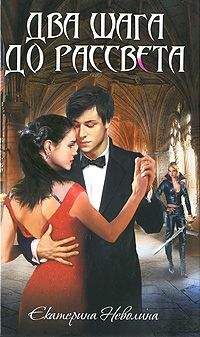Хуан Онетти - Манящая бездна ада. Повести и рассказы
Женщина за соседним столиком засмеялась, наклонив голову, ее украшенная цветами шляпа качнулась — и в это мгновение трое танцоров фламенко взглянули на Марию Эсперансу, и сразу все сидящие за столиками обернулись к ней. Кажется, она не утратила, слава богу, своей столь старательно заученной походки; но по какой-то странной неловкости она то и дело оказывалась в самых освещенных местах парка, где сходились в одной точке цветные огоньки и пересекались взгляды сидящих за столиками или прогуливающихся — то парами, то в одиночестве, то с детьми, — так или иначе, просто отдыхающих в парке этой напоенной прохладой летней ночью. Закрыв на миг глаза, Мария Эсперанса ощутила, что рот ее сводит гримаса, она решительно открыла их и шагнула к столику, за которым сидел толстяк, потягивающий пиво; он заметил ее, и выражение его лица сразу стало приветливым, добродушным; он поправил узел галстука и, теребя пуговицы на жилетке, отодвинул наконец свою огромную кружку. Мужчина ласково посмотрел на Марию Эсперансу, на его лице проступила такая нежность, что она прошептала «нет» и прошла мимо, нечаянно задев сухие стебли растущего рядом тростника с жесткими, как у осоки, листьями, и шелест сухих листьев повторил, унося с собой, ее шепот…
Вдруг слева раздался взрыв аплодисментов: женщина на эстраде, одетая в мужской костюм, раскланивалась, держа кепи в руке, и ее распущенные волосы почти касались края сцены, украшенной гирляндами синих и белых лампочек; от их неприятного синего цвета Мария Эсперанса почувствовала недомогание; в изнеможении она остановилась, вся в поту, ощущая, как густо положенная пудра расплывается по лицу, а острая боль от высоких каблуков вонзается в лодыжки.
Аплодисменты смолкли, и зрители, повернувшись, вновь уставились на нее; певичка, появившаяся на табладо вслед за танцорами фламенко, быстрым шагом обошла по кругу сцену под звуки ритмичного пасодобля. Уперев руки в бока и бросив взгляд на Марию Эсперансу, артистка, усмехаясь, принялась распевать озорные куплеты, затем, сделав несколько шагов, вновь перевела взгляд на Марию Эсперансу — она пела свои куплеты для нее, обращалась к ней одной, насмехаясь именно над ней, — и трепетание нарастающего веселого смеха витало над столиками. Мария Эсперанса отошла от тростниковых зарослей и приблизилась к высокому худощавому мужчине в соломенной шляпе, съехавшей на затылок; он сидел неподвижно, с сигаретой у рта, глядя в пространство. Она остановилась рядом, едва не задев его, и внимательно посмотрела ему в лицо. Мужчина продолжал курить, и взгляд его небольших печальных глаз по-прежнему был устремлен вдаль. Мария Эсперанса резко повернулась и направилась обратно — только теперь походка ее стала привычной, такой, как всегда: медленно, безвольно опустив руки, она подошла прямо к столику того толстяка, допивающего вторую кружку пива; увидев ее, он отодвинул кружку, и на лице его вновь появилась ласковая улыбка. В конце концов Мария Эсперанса присела рядом с ним на маленькую чугунную скамейку. Она заметила, что добродушный толстяк несколько мгновений смотрел на нее все с той же симпатией. Пока он подзывал официанта, это выражение на мгновение исчезло с его лица, но вскоре он снова расплылся в улыбке, улыбке нелепой, приторной нежности, которая должна была бы объяснить всем, что она, Мария Эсперанса, приходится ему дочерью, — этому толстяку с рыжеватыми усами, неспешно потягивающему пиво в парке освежающей летней ночью.
Он взял ее руку, безвольно застывшую в складках юбки, и, накрыв своей большой ладонью, опустил на край столика, затем о чем-то спросил ее, хихикнул, снова что-то спросил: он задал два вопроса, смысла которых Мария Эсперанса так и не сумела понять.
Она поняла лишь и испытала почти радость — подобно людям, от этого мира далеким, — что сможет преодолеть то страшное, зловещее воспоминание и исполнить короткий приказ: ловить мужчин и приносить домой деньги.
Добро пожаловать, Боб!
© Перевод. Раиса Линцер
Да, ясно, с каждым днем он будет становиться все старее, уходить все дальше от тех времен, когда его звали Боб, и русая прядь падала ему на висок, и блестели глаза, и улыбка озаряла лицо, — от тех времен, когда он входил в комнату, и, негромко поздоровавшись или слегка помахав рукой где-то возле уха, усаживался под лампой, рядом с роялем, и принимался за книгу или просто сидел, задумчивый и отрешенный, и битый час не сводил с нас взгляда, не меняя выражения лица и лишь изредка шевеля пальцами, чтобы поднести к губам сигарету или стряхнуть пепел с лацкана светлого пиджака.
Так же далек он теперь — когда зовется Роберто, напивается чем попало и кашляет, прикрывая рот грязной рукой, — от того Боба, который пил не больше двух стаканов пива даже в самые длинные вечера и сидел за столиком клубного бара, сложив перед собой кучкой монеты по десять сентаво для проигрывателя. Почти всегда в одиночестве, он слушал джаз с мечтательным, счастливым бледным лицом, едва кивая в знак приветствия, когда я проходил мимо, но следя за мной глазами все время, пока я оставался в баре, — все время, пока я мог выносить взгляд этих голубых глаз, без слов выражавший глубочайшее презрение и легкую насмешку. А по субботам он приходил с каким-нибудь мальчишкой, столь же возмутительно молодым, как он сам, и они рассуждали о сольных партиях, валторнах и хорах или же о прекрасном городе, который построит Боб на побережье, когда станет архитектором. Завидев меня, он прерывал беседу, чтобы небрежно кивнуть мне, и уже не сводил с меня глаз, лишь изредка роняя слова или улыбаясь уголком рта своему другу, который в конце концов тоже начинал смотреть на меня, своим молчанием подчеркивая презрение и насмешку.
Иногда я чувствовал себя достаточно сильным и пытался сам смотреть на него: опершись подбородком на руку, я покуривал, пуская дым поверх своей рюмки, и смотрел на него, не моргая, не пытаясь отвлечь его внимание от моего лица, холодного и немного печального. В те времена Боб очень походил на Инес; и я мог наблюдать ее черты в его лице, глядя через весь клубный зал, и, возможно, иными вечерами я смотрел на него так, словно смотрел на нее. Но почти всегда я предпочитал забыть о глазах Боба; я усаживался спиной к нему и поглядывал на тех, кто разговаривал за моим столиком, поглядывал в грустном молчании, желая внушить ему, что есть во мне и другие черты, кроме тех, по которым он судил меня, нечто близкое ему самому. Иногда же я подкреплялся несколькими рюмками и, думая: «Ну-ка, милый Боб, поди расскажи об этом своей сестренке», гладил руки сидевших за моим столиком девушек или же развивал какие-нибудь циничные теории, а они хохотали, и Боб все это слышал.
Но что бы я ни вытворял, ни поведение, ни взгляд Боба нисколько не менялись. Упоминаю об этом лишь в доказательство того, что он замечал мое кривляние в баре. Однажды вечером я поджидал Инес у них в гостиной, стоя у рояля, когда неожиданно вошел Боб. Плащ его был застегнут на все пуговицы, руки засунуты в карманы. Он поздоровался, кивнув головой, потом огляделся вокруг и прошелся по комнате с таким видом, будто меня не существует, будто своим кивком он уничтожил меня начисто; я смотрел, как он ходит взад и вперед мимо стола, топча ковер желтыми туфлями на каучуковой подошве. Он потрогал пальцем цветок, присел на край стола и закурил, глядя на цветочную вазу, повернувшись ко мне своим четким профилем, слегка наклонив голову, в небрежно-задумчивой позе. Нечаянно — я стоял, прислонившись к роялю, — я задел левой рукой басовую клавишу, но вышел из положения, нажав ее еще раз, и стал повторять тот же звук каждые три секунды, не сводя глаз с Боба.
Я испытывал к нему ненависть и какое-то унизительное почтение и продолжал с трусливой яростью бить по клавише в окружавшей нас тишине, пока внезапно не увидел всю эту сцену со стороны, как бы взирая на нее с верхней ступени лестницы или с порога двери: увидел его, Боба, безмолвного, отрешенного, а над ним колебание уходящей вверх тонкой струйки дыма; увидел и самого себя, высокого и неподвижного, отчасти торжественного, отчасти смешного, в полутемной комнате, каждые три секунды упорно бьющего указательным пальцем по басовой клавише. И я подумал, что повторяю этот звук не из пустой бравады, нет, я взывал к нему; эта глубокая басовая нота, которую снова и снова возрождал мой палец, едва замирала последняя вибрация, была тем наконец найденным, единственным словом, которым я мог молить его безжалостную юность о снисхождении и понимании. Он сидел не шелохнувшись, пока Инес не хлопнула наверху дверью спальни, собираясь спуститься ко мне. Тогда Боб встал и, лениво подойдя к хвосту рояля, облокотился на крышку, взглянул на меня и спросил с очаровательной улыбкой:
— Ну как, этот вечер будет вечером молока или виски? Порывом к спасению или прыжком в бездну?
Я не мог ему ничего ответить, не мог разбить ему кулаком физиономию; я перестал стучать по клавише и медленно убрал руку с рояля. Инес спустилась уже до середины лестницы, когда он, уходя, бросил мне: