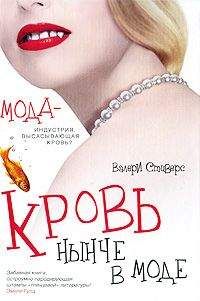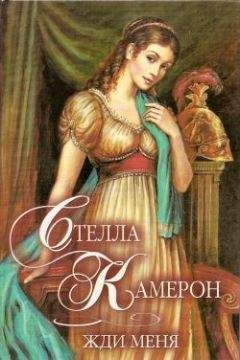Владимир Гусев - Дни
— Неужели? — Он помолчал, глядя на нее и лишь еле-еле, слегка улыбаясь. — Простите, Людмила Владимировна. Я и п-правда ненарочно. — Он запнулся на слове «правда» от вдруг совершенно отчетливо мелькнувшего у него мгновенного сознания, что все, все, что бы он ни сказал, каждое его слово, будет истолковано ею не в его пользу. И тут безнадежны всякие «правда». И он и действительно вновь вдруг с особой силой почувствовал, что та правда, которую он сейчас ей сказал, — по сути, по главному смыслу — неправда, поскольку она вот стоит и смотрит на него неверящими, осуждающими, строгими круглыми глазами старой моралистки и… «видит его насквозь». Саша покраснел и запереминался перед ней еще больше; и улыбнулся улыбкой, которая выглядела и была еще кривей и ироничней первой.
Людмила Владимировна с достоинством помолчала, как бы давая ему время насладиться своей лживой заносчивостью.
— Я тоже уверена, что это ненарочно, — сказала она, лишь тоном давая оценку истинности этого утверждения. — Но все-таки вы уж больше не забывайте. Я старая педантка, я люблю формальности. Вы уж меня извините. Вы, конечно, человек сугубо иронический, но каждому свое.
— Да нет, Людмила Владимировна, ну зачем…
— Ну, ладно, ладно. Не страдайте. И главное, не улыбайтесь. Я уж знаю, что я неумна, отходящее поколение, так зачем же еще и улыбаться над старухой?
— Ну, зачем же уж старуха…
— И на том спасибо. Расщедрились на комплимент — как это вы? В душе, наверно, вы только себе-то и говорите комплименты.
— Да нет, не только себе.
— О боже! Как это сказано! Какой сарказм! Так и видно, что… Ну ладно, хороши мы. Стоим, ругаемся в коридоре. Вас ждет экскурсия.
В зал, где собираются группы для начала осмотра, Саша, наискось вверх держа длинную указку, входит с тем видом неуловимого превосходства над всеми праздно толпящимися вокруг, который присущ почти всем экскурсоводам: он делает дело, он знает, они же… должны слушать. Саша почти прям в спине — только слегка, по своей привычке, съежил плечи — и свободен, легок в движениях, он идет по паркету в своих мягких ботинках плавным, легким, округлым шагом. Пенсне поблескивает, глаз за ним не видно; лицо розовое, строгое, на нем особая экскурсоводская непроницаемость.
— Здравствуйте, товарищи, — четко, негромко и просто говорит Саша и останавливается, чуть перемявшись с ноги на ногу — оттенок волнения, много людей — и держа указку двумя руками вверх — наискось — перед группой экскурсантов, глядя чуть поверх голов впередистоящих: ожидая, пока эти вечно безалаберные задние, спрятавшиеся за спины аккуратных передних, перестанут лепиться по стенам и глазеть по сторонам и поверху и тоже обратят к нему свои взоры. Ему нестройно отвечают «Здравствуйте» и постепенно затихают.
— Как вы знаете, наш город — значительный центр культуры, — начинает Саша более высоким, чем его обычный, голосом, невозмутимо и в то же время с едва заметным оттенком превосходства. — И так обстоят дела не только сейчас — так было и раньше. — Некоторая вольность, фронда экскурсовода с самого начала должна привлечь публику. — Не только после революции, но и в предшествующие ей два-три столетия культура нашего города и губернии развивалась довольно интенсивно. Что касается общего ее развития, то об этом имеется богатый материал в музее краеведения; он напротив. Мы же коснемся лишь вопросов истории изобразительного творчества в наших краях. Подойдем вон к той стене.
Саша с указкой мягко идет вперед, толпа с надлежащим покорством шелестит вслед за ним. Лиц пока Саша не различает; вот если начнутся вопросы, тогда другое дело. У стены стоят покрытые лаком столики с глиняными надбитыми и надтреснутыми горшками, с костяными ножами и спицами, веретенами; над ними висят холсты с народным лубком.
— Здесь ранние этапы развития искусства в нашей области. Конечно, это еще не Крамской и даже не Лактионов. — Саша мельком охватывает взглядом лица, полукругом обращенные к нему, стараясь по реакции быстро схватить дух и тип аудитории. Несколько смешков, редкие улыбки, остальные непроницаемы. Аудитория, кажется, разношерстная, но есть… ядро. — Но это действительно интересно. — Саша смотрит на горшки, на холсты, и в глубине души у него мелькает чувство, что ничего-то интересного в этом нет… Саша историк, в музей изобразительных искусств он попал немного случайно: надо было устраиваться, а он еще в студенческие годы, вслед за знакомыми девчонками, время от времени посещал немноголюдный кружок по истории живописи, возглавляемый Ростиславом Ипполитовичем, и тот его запомнил. Ведь Саша был интеллигентен, умен, жив, сообразителен. Но в глубине души Саша до сих пор не может понять всех этих восторгов по поводу «линий и красок», «композиции и ракурса», «свежести, оригинальности решения задач светотени». Все это кажется ему глубоко фальшивым — не только сами эти избитые, трафаретные слова — их-то фальшь ясна ему сама собой, — но и сами те понятия, те особенности живых картин, которые за ними стоят. Сам Саша живо владеет всей этой терминологией и системой фраз и хорошо знает, где какую из них говорить, а где лишь намекать, а где недоговаривать, чтобы выглядеть и даже и быть умным, толковым, разбирающимся в деле, остро мыслящим молодым человеком; и таковым его и считают, и никто не сомневается на этот счет, но у самого Саши порой мелькает странная мысль, что или его самого дурачат все эти Алпатовы, Джоны Ревалды, Барские и Русаковы, Ростиславы и Людмилы, или он ровным счетом ничего не понимает в живописи. Он говорит о ней всегда умно, остро, современно и живо, но если вырвать из его речи, запечатлеть, остановить любое его суждение и проанализировать, добраться до его сути, выяснить происхождение, то в конечном счете всегда окажется, что это суждение хотя бы в третьей, четвертой или даже и в десятой инстанции, но исходит не от самого Саши, рождено, произведено на свет не им самим… Мысль о том, что он ничего не понимает в живописи, мешает Саше нормально и уверенно работать, и потому он ее обычно быстро прогоняет. Особых усилий это ему не стоит… Но все же в истории было бы как-то спокойней внутренне: факты и политико-экономические шапки к ним, и все… А тут вечно есть в душе какой-то оттенок тревоги: вдруг попадется некто, кто действительно… разбирается в живописи… Историю Саша тоже особенно так уж не любит… но все же… В целом Саша считает, что он понимает в живописи не хуже, а лучше многих других, и потому тон его уверен.
— На этих глиняных горшках, неказистых с виду, вы видите орнаменты, нанесенные удивительно стойкой голубой краской — видите, она до сих пор почти не потемнела, — поражающие плавностью линий и искусной затейливостью узора.
Он смотрит на горшки, и линии, орнаменты в данный миг искренне, действительно кажутся ему удивительно плавными, мягкими, легкими. Почему бы нет? Саша розовеет еще больше, его голос обретает оттенок живого волнения и патетики. В то же время внешне он остается сдержан и корректен и чувствует, знает, что это должно производить на людей очень хорошее впечатление — это то, что называют: «сдерживаемое волнение». Знающий, живой и в то же время сдержанный человек, который не выставляет свою любовь, понимание искусства, а спокойно владеет ими.
— Эти сосуды найдены в Снежково, в курганах, относимых ко второму тысячелетию до нашей эры. Но, как видим, человек уже и тогда был человеком. Эстетическое чувство — один из вернейших признаков подлинной человечности. Посмотрите, какое чувство симметрии, какая линия.
— Да. Да. Скажите! — шелестят, вздыхают дамы в толпе.
Мужчины, как всегда, немного трунят над женщинами, над сентиментальностью:
— Вам бы такую кастрюлю, Мария Витальевна. Вы бы любовались весь день и кашу не варили (добродушный, тихий смешок экскурсантов с тихо-заигрывающе-робким поглядыванием на экскурсовода).
Но по тону и взгляду острящего, по робости и застенчивости этого смешка и по всем уже прочим взглядам, жестам стоящих вокруг Саша чувствует, что и мужчины, и вся вообще публика настроены к нему благожелательно, несколько растроганы. Главное — не в самих словах его, а в тоне, в манере держаться — уверенной и скромной, всезнающей и заинтересованной, сдержанной и с подавленным волнением. Молодежь, она все же крепкая. Мы, молодежь, не подведем — такова атмосфера, постепенно незримо и невысказанно устанавливающаяся вокруг Саши.
Вот он ведет экскурсию в зал, где выставлены полотна XVIII века.
— В нашем музее представлены авторские копии с холстов выдающихся мастеров-портретистов восемнадцатого столетия — Федора Степановича Рокотова, Владимира Лукича Боровиковского. Рокотова высоко ценили крупнейшие деятели искусства прошлого века и новейших времен. Вы, конечно, знаете эти строки Заболоцкого: