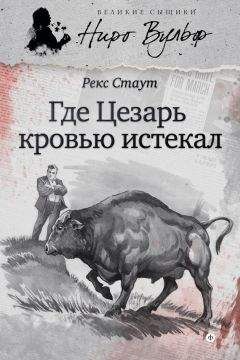Робер Сабатье - Шведские спички
При такой суровой экономии присутствие Оливье вызывало в этой семье немало проблем. Чтоб создать у себя иллюзию растущего уровня жизни, юная чета порой заменяла деревенский весовой хлеб батонами, даже сдобными булочками, однако нехватка денег вновь заставляла их экономить. Дождутся ли они когда-нибудь достатка, который снизойдет на них, словно по мановению волшебной палочки?
Когда ребенок сидел около молодых влюбленных, облокотившись о палисандровый стол, они любезно ему улыбались, но со временем начинали чувствовать, что он им мешает. Поставив перед собой потные листки с текстом популярных песенок, Жан и Элоди напевали дуэтом «Марилу, как сладостно было первое наше свиданье», а Оливье добавлял: бам-бам-дзум! — но даже эта детская вольность не могла рассеять экзотического аромата «Светлого неба Сорренто» или «Я ее встретил на Капри», Головы Жана и Элоди сближались, их губы искали друг друга, и ребенок понимал, что следует уйти поиграть, и тут же получал разрешение выбежать на улицу.
Он садился на первую ступеньку каменной лестницы, подпирал кулаками подбородок и пытался сосредоточиться, но все вокруг было неясно, расплывчато и лишь постепенно приобретало более четкие очертания. Ночь нагоняла на него тупой страх. Он был в таком напряжении, что вздрагивал от гудения водопроводных труб, от малейшего скрипа деревянных полов.
В чистой двухкомнатной квартирке, оклеенной обоями с изображением увитых цветами колонн, тянущихся к голубоватому потолку и упирающихся внизу над плинтусом в фриз светло-зеленого тона, была глубокая ниша, отделенная от столовой складной трехстворчатой дверцей, затянутой сверху прозрачной пленкой. Здесь спал Оливье, на диване-кровати, встроенном в тонкую рамку из плакированного индонезийского дерева, с полками для книжек и безделушек. Мебель была легкой и неустойчивой, и нередко на голову Оливье падало новое сочинение Пьера Бенуа (или Раймонды Машар, или Клода Фаррера, или Анри Бордо).
Рядом в шкафу находилась одежда мальчика: синий матросский костюм и уже тесный ему берет, серый костюмчик с брюками-гольф (это на воскресенье), немного белья, лакированные туфли, шлепанцы на веревочной подошве, башлык, черный непромокаемый плащ на молнии, несколько свитеров, связанных Виржини, школьные халаты из черного сатина, отделанные красной каймой.
Наденет ли он когда-нибудь школьный халатик? Мальчик предпочитал об этом не думать, он издали поглядывал на своих школьных дружков, когда в четыре часа пополудни кончались уроки в классах, и втайне им завидовал. Если бы Оливье сам попросил разрешения вернуться к занятиям, ему бы не отказали, но он был убежден, что этот частный запрет был связан со всей его горькой судьбой и ничего с этим не сделаешь — он бессилен. Иногда мальчик брал свой ранец из телячьей кожи, клал его на диван, становился перед ним на коленки и заново осматривал содержимое: учебники, которые выдала ребятам школа, обернутые в голубовато-серую бумагу и украшенные ярлычком с обрезанными уголками (Учебник арифметики принадлежит такому-то…), дневник, обернутый в ту же бумагу, тетрадки с линованными красными полями, с особыми вкладками, отделанными под муар — на них были напечатаны таблицы умножения и деления. Он часто приводил в порядок свою готовальню, раскладывал по отделениям черного футляра циркули и всю эту точную механику — транспортир, рейсфедер, вставные запасные графиты, потом вынимал лакированный черный пенал с золочеными цветочками на крышке и отделениями для перьев «утка», «сержант-майор», «рондо»; там же у него были твердые и мягкие карандаши, ручки, одна тоненькая, как папироска, другая из оливкового дерева, толстая, как сигара, и, кроме того, еще одна костяная ручка, плоская, отделанная кружевными зубчиками вокруг небольшого отверстия и даже четырьмя миниатюрными видами Парижа; в другом гнездышке лежала резинка и рядом печатка с его инициалами, которую мальчик сам смастерил, еще одна печатка помягче, вся искусанная (у нее был странный вкус ластика, розовой промокашки и белого душистого клея), точилка для карандашей, круглая, в форме глобуса, с вмятиной у Тихого океана, великолепная линейка из красного дерева с четырьмя медными ребрами, складной дециметр, весь в чернильных пятнах, наждачная бумажка, чтоб заострять карандашный графит, и какой-то растушеванный черным рисунок. Карандаши распространяли древесный запах по всему ранцу. А ведь здесь была еще копировальная бумага (красная, черная) и карта, вырезанная в форме Франции с патриотической, торжественной надписью: «Дитя, вот твоя родина!», была и черная коробка с акварельными красками и углублениями в крышке, с белыми чашечками для воды и кружочками красок, глубоко размытых кисточкой, еще коробка цветных карандашей в картонном футляре с прорезью, и всякие тряпочки, и тюбик белой гуаши.
Оливье грустно прижался лбом к перилам. Мрачное нашествие ночных страхов все еще продолжалось. Он боялся сдвинуться с места. Может, следовало нырнуть поглубже в простыни, свернуться в клубок — и он был бы спасен. Но как с себя сбросить сковавшее волю оцепенение? Одно его движение — и все эти враждебные силы, казалось, вырвутся наружу: опасность таилась повсюду, на каждом повороте лестницы, на каждой площадке, в любом углу, за любой дверью.
Внезапный свет ослепил мальчика. Зажглись на лестнице и в коридоре все лампы, автоматический запор входных дверей издал свое обычное тиканье, и всеобъемлющая тишина превратила этот звук в громыхание. Оливье услыхал легкие, быстрые шаги — кто-то спускался по лестнице. Мальчик взбежал на промежуточную площадку, затаился там, чтоб пропустить человека, чью походку он узнал: этот мужчина всегда одевался в светлое, вел ночную жизнь и относился презрительно к жителям их квартала.
*Человек был одет в элегантный костюм из светлого альпага, ультрамариновую шелковую рубашку с резко выделяющимся, крикливым оранжевым галстуком, в светло-желтые туфли, а его темные, обильно напомаженные волосы скрывала мягкая фетровая шляпа, низко надвинутая на лоб. Черноглазый, с матовой кожей — красивый парень, хотя нос у него и несколько приплюснут, как у боксера. Что-то двусмысленное было в его лице: чересчур крупный рот, влажные губы — и невероятно злой взгляд. Рослый, широкоплечий, он спускался по лестнице, перескакивая через ступеньки, с нарочитой развязностью. Чистейшее порождение своего времени, он был бы вполне на месте среди компаньонов гангстера Аль-Капоне.
Оливье попытался отойти в сторону, но сделал это очень неловко и помешал ему пройти. Широкая ладонь легла на лицо мальчика, пальцы сжались, как будто хотели выжать его, как губку, и толчок швырнул Оливье головой об стену, а человек продолжал спускаться, будто ничего не заметил, помахивая, как спортсмен, руками, довольно ухмыляясь — видимо, наслаждался проявлением своей силы.
Оглушенный Оливье услыхал окрик в адрес привратницы «Откройте-ка дверь!», да еще без всякого «пожалуйста». Полусонная женщина дернула за шнур с шишечкой, висевшей у ее кровати, и дверь, открываясь, загудела. Ребенок наклонился над перилами и увидел, как мужчина с развязной манерностью зажег сигарету. Оливье знал этого человека, его звали Мак, он пользовался весьма дурной славой на их улице, но это не мешало подросткам восхищаться тем, что они принимали за элегантность.