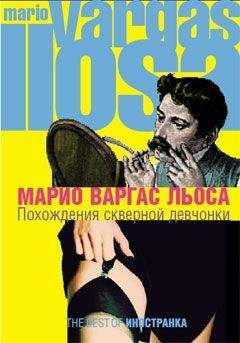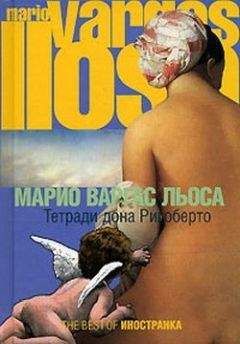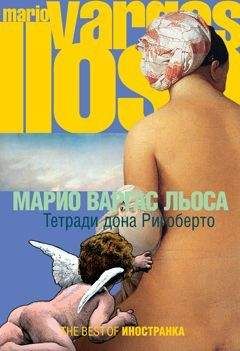Марио Льоса - Похождения скверной девчонки
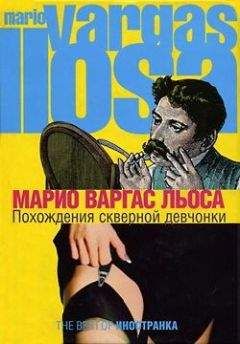
Обзор книги Марио Льоса - Похождения скверной девчонки
Марио Варгас Льоса
Похождения скверной девчонки
Посвящается X. – в память о героических временах
I. Юные чилийки
То лето было просто сказочным. Приехал Перес Прадо со своим оркестром, дюжиной музыкантов, чтобы в дни карнавала играть на танцах в клубе «Террасы» в Мирафлоресе и столичном «Лаунтеннисе». На площади Ачо прошел национальный конкурс мамбо – с фантастическим успехом, вопреки угрозам архиепископа Лимы кардинала Хуана Гуальберто Гевары, который обещал отлучить от церкви все участвующие в нем пары. А наш район Баррио-Алегре, куда входили улицы Диего Ферре, Хуана Фаннинга и Колумба, устроил собственный чемпионат – по футболу, велоспорту, атлетике и плаванию. Состязались мы с улицей Сан-Мартин и, понятное дело, одержали победу.
В то лето 1950 года случились вещи невероятные. Хромой Ланьяс впервые влюбился в рыжую Семинауль, а она, к удивлению всего Мирафлореса, приняла его ухаживания. И тогда Хромой, словно забыв про свою хромоту, стал расхаживать по улицам грудь колесом, что твой Чарльз Атлас.[1] Тико Тираванте расплевался с Ильзе и влюбился в Лауриту, Виктор Охеда влюбился в Ильзе и расплевался с Инхе, Хуан Баррето влюбился в Инхе и расплевался с Ильзе. И так далее. Короче, началась такая чехарда, что у всех просто голова шла кругом: пары распадались, соединялись, снова распадались, и после окончания субботней вечеринки на улицу выходили уже не в том порядке, в каком туда являлись. «Что за распущенность!» – возмущалась моя тетя Альберта, у которой я жил после гибели родителей.
На пляже в Мирафлоресе волны разбивались дважды: в первый раз метров за двести от берега, и мы, кто похрабрей, доплывали туда, чтобы лихо на них прокатиться, и волны несли нас метров сто. Но потом умирали, превращаясь в ровные холмики, затем опять набирали силу, и прибой выбрасывал нас, бегущих по волнам, прямо на мелкие камушки, рассыпанные по берегу.
В то невероятное лето на праздниках, которые устраивались в Мирафлоресе, как-то сразу перестали танцевать вальсы, корридо, блюзы, уарачи и болеро, потому что их затмил мамбо. Мамбо был подобен урагану или даже землетрясению. И теперь все мы, дети, подростки и взрослые, на вечеринках вертелись, подпрыгивали, брыкались, выделывали разные фортели. То же самое, разумеется, происходило и за пределами Мирафлореса – за границами нашего мира и нашей жизни: в Линсе, Бренье, Чоррильосе, или даже в районах, на наш взгляд, еще более экзотических – в Ла-Виктории, в центре Лимы, в Римаке и Порвенире, куда мы, обитатели Мирафлореса, носа никогда не совали и совать не собирались.
Короче, всякие там вальсочки и самбы, уарачи и польки мы сменили на мамбо, как, кстати, тогда же сменили роликовые коньки и самокаты на велосипеды, а некоторые, например, Тато Монхе и Тони Эспехо, – на мотоциклы, а редкие счастливцы, один или, может, двое, – на автомобили. Например, местный пижон Лучин, случалось, угонял папашин открытый «шевроле» и на скорости сто километров в час катал нас по набережным – от клуба «Террасы» до Армендариса.
Но самым знаменательным событием того лета стал приезд в Мирафлорес из Чили, далекой-предалекой страны, двух сестер, чей сногсшибательный облик и необычная манера говорить, быстро проглатывая последние слоги в словах, с восклицаниями-выдохами, звучащими как «руэ», – сразили наповал нас, мальчишек из Мирафлореса, которые едва сменили короткие штаны на брюки. И я, кажется, «заболел» сильней других.
Младшая из сестер казалась старшей, и наоборот. Старшую звали Лили, но она была чуть ниже Люси, отстававшей от нее на год. Лили было лет четырнадцать-пятнадцать, не больше, а Люси, соответственно, лет тринадцать-четырнадцать. Определение «сногсшибательные» было словно специально для них придумано. Правда, Люси если и привлекала к себе всеобщее внимание, то в гораздо меньшей степени, чем сестра, и не только потому, что и волосы у Люси были не такими светлыми и длинными, как у Лили, и одевалась она поскромнее, а потому, что была потише. Правда, во время танцев она тоже чего только не выделывала и бедрами крутила так, как не посмела бы крутить ни одна из юных обитательниц Мирафлореса, но все же оставалась девочкой застенчивой и даже немного заторможенной, а точнее сказать, пресной по сравнению с сестрой, которая была подобна вихрю или пламени на ветру, когда ставили пластинки на pick-up,[2] начинались танцы и она лихо зажигала мамбо.
Лили танцевала в обалденном ритме и при этом мило улыбалась и напевала слова песен, а еще она вскидывала руки, сверкала коленками, изгибала тело и поводила плечами, так что вся ее фигурка, которую блузки и юбки весьма вызывающе обтягивали, подчеркивая все округлости, извивалась, сотрясалась и участвовала в танце – от макушки до кончиков пальцев на ногах. Тот, кто шел танцевать с ней мамбо, обрекал себя на нешуточное испытание – попробуй подладиться под ее дьявольский темп, попробуй не задеть ненароком быстрые ножки! Никто не мог поспеть за ней, к тому же трудно было отделаться от мысли, что глаза всех танцующих прикованы к подвигам Лили. «Ну и девчонка! – возмущалась моя тетка Альберта, – отплясывает все равно как Тонголеле[3] или как те, что танцуют румбу в мексиканских фильмах… Хотя чего с нее возьмешь, она ведь чилийка, – сама себе отвечала тетка. – А в той стране женщины никогда не отличались благонравием».
Я влюбился в Лили как теленок, что считалось у нас самой романтической формой влюбленности, – втюрился по уши, по тогдашнему выражению. В то незабываемое лето я трижды объяснялся ей в любви. В первый раз – на галерке кинотеатра «Рикардо Пальма», расположенного в Центральном парке Мирафлореса. Дело было на утреннем сеансе, и она ответила мне «нет», потому, мол, что еще слишком молода, чтобы иметь постоянного ухажера. Вторую попытку я сделал на катке, который как раз тем летом открылся рядом с парком «Саласар», и она ответила мне «нет», потому, мол, что ей нужно сперва хорошенько подумать и, хоть я чуточку ей и нравлюсь, она не хочет перечить родителям, которые просили ее не заводить кавалера, пока не закончит четвертый класс второй ступени, а учится она еще только в третьем. В последний раз я признался ей в любви за несколько дней до ужасного скандала. Мы сидели в кофейне «Рика» на улице Ларко, пили ванильный milk shake,[4] и я, конечно же, опять услышал «нет» – и вообще, чего я к ней пристаю, если мы и так ведем себя как самые настоящие влюбленные. Например, всегда только вместе заявляемся к Марте, когда там играют в «скажи правду». Всегда сидим рядом на пляже в Мирафлоресе. И на вечеринках она танцует со мной чаще, чем с другими, разве нет? Зачем я вытягиваю из нее это «да», если и так весь Мирафлорес считает нас парочкой? Лили была воплощением женского кокетства: мордашка пай-девочки, темные хитрющие глаза и пухлые губки.
«Мне нравится в тебе все, – сказал я ей, – но больше всего то, как ты говоришь». Речь ее и вправду была забавной и необычной, сильно отличаясь интонацией и напевностью от того, как говорили мы, перуанцы. К тому же она вставляла в нее особые, незнакомые нам словечки, обороты и выражения, которые нередко ставили нас в тупик: мы пытались угадать, что она имеет в виду и нет ли тут скрытой насмешки. А еще Лили не чуралась двусмысленностей, сыпала рискованными намеками или рассказывала не слишком приличные истории, так что местные девчонки не знали куда глаза девать. «Эти чилийки просто ужасны», – вынесла приговор моя тетка Альберта, при этом она то снимала, то снова надевала очки с видом школьной учительницы, на которую и в самом деле была похожа. Ее очень беспокоило, что две чужестранки могут нанести непоправимый урон моральным устоям нашего Мирафлореса.
В начале пятидесятых в Мирафлоресе еще не было высоких зданий, весь район состоял из одно– или, в лучшем случае, двухэтажных домиков, окруженных садами, где непременно росли герань, палисандры, лавры, бугенвилии, имелись газоны и террасы, увитые плющом и жимолостью, на террасах стояли кресла-качалки, и в них по вечерам усаживались дамы, чтобы посплетничать и насладиться ароматом жасмина. В некоторых парках росли колючие сейбы с красными и розоватыми цветами, и тянулись прямые чистые дорожки, обсаженные невысокими деревцами – сучилями, жакарандами, шелковицами. Кроме цветов яркие пятна в пейзаж добавляли желтые тележки мороженщиков фирмы «Д'Онофрио», щеголявших в белых форменных халатах и черных шапочках. Они с утра до ночи сновали по улицам и о своем появлении извещали дудя в специальный рожок – его протяжный зов действовал на меня подобно рогу варварских племен, если прибегнуть к исторической параллели. В тогдашнем Мирафлоресе еще слышалось пение птиц, и там сохранялся обычай срубать сосну, когда девушка достигала брачного возраста, – считалось, что, если этого не сделать, она может остаться старой девой, как моя тетка Альберта.