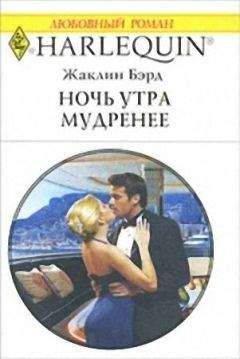Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
— Русский народ есть великий! Гегель высоко ценил…
— Высоко! Да мы-то, русские, не все достойны такой оценки. Вот, к примеру, я.
— А как вы господина Калугина оцениваете?
— Башковит, но простофиля. Мы, русские, слишком доверчивы…
Бывшему дипломату казалось, что Гном в душе смеется над ним, и Шарф сменил тезис беседы:
— Господин Иванов, вы можете на памятнике России статую инкогнито представить?
— А вы, ученый муж, — рассыпал он мелкий смешок, — можете представить микешинский ковчег?
— Пардон! Как понять — «ковчег»?
— История, как потоп, уносит людей в неизвестность, лишь избранные сподобились спасительного ковчега — Тысячелетия.
— Гут, гут!
— Так вот — ковчег! И он же свод русской философии.
— Абсурд! — засмеялся немец от всей души. — Я понимаю, памятник Канту или Гегелю, но Русь никогда философской державой не была. Мир знает русских революционеров, балерин, романистов…
— А Белинский, Герцен, Чернышевский, Плеханов, Ленин?
— Нет, нет! Они есть ученики, последователи Гегеля и Фейербаха. А на памятнике нет ни одного философа!
— Калугин укажет вам и философа и свод философии.
— Абсурд! Невозможно показать то, чего не существует…
— В самой невозможности, говорит Калугин, заложена возможность, ибо отрицание — особая форма утверждения.
«Хмельная диалектика», — замкнулся Шарф и, приглашая Гнома на воскресный диспут, подумал: «Знает ли Гретхен Калугина?»
— Прошу прощения, — засуетился гость, хватаясь за портфель. — Очень спешу к маменьке: она, возможно, единственная любит меня. А насчет Калугина — предупреждаю: диалектику он изучал не только по Гегелю. Не обломайте зубы!
На счету Шарфа не один расколотый «орешек»: ему не привыкать выходить победителем в философских турнирах. Все же у противника неоспоримое преимущество — он, историк, лучше знает памятник России. Следует основательно подготовиться к спору. Миру ученых давно известен русский феномен Михайло Ломоносов: мудрый исследователь. Нет ли его рядом с Петром I?
НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТОни встретились за ужином. Яснопольская торопилась на концерт. Все же охотно ответила интуристу:
— С Калугиным встречалась дважды: он груб и хвастлив — кичится натренированностью своего ума…
— Пардон! — изумился Шарф и уточнил внешность Калугина.
Актриса уверенно обрисовала Калугина и неожиданно чарующе улыбнулась немцу:
— Проучите зазнайку! — Она взглянула на дверь столовой: — Отдохните вечером в Софийском саду. Я выступаю там с талантливым скрипачом…
— Приезжим?
— Нет. Местный. Додик Гершель, сын аптекаря…
Он не успел задать вопрос: Гретхен кокетливо помахала ладошкой и скрылась за дверью. Нет сомнения, она признала в нем друга своего отца.
Радуясь ее приятной перемене, он поднялся к себе в номер. Записки в двери не было, хотя попутчица рекомендовала ему Соловьевскую гостиницу. Осторожничает, не дает о себе знать. Если скрывается от чекистов, то ее поведение объяснимо. Не она ли дочь Вейца? Перекрасить волосы просто…
Доктор философии снял чешские ботинки и, не раздеваясь, прилег на кровать. Сравнивая попутчицу с Гретхен, он остановил внимание на актрисе. Утром ее синева в глазах была холодной, а вечером потеплела: надушилась парижскими духами, столь манящими, столь близкими ему.
Волнующие мысли отнесли его назад, в студенческую пору жизни. О, в молодости всякое бывало. А началось с угринок на лице. Мать, заметив, двусмысленно улыбнулась, но отец закрыл дверь кабинета и вручил сыну визитную карточку массажистки.
Бланманже, дебелая француженка в кокетливом халатике с полуоткрытой грудью, завела застенчивого юношу в полутемную комнату, где пахло парижским салоном, и сладко шепнула: «Малыш, раздевайтесь. Ваш отец уплатил за услуги». После сеанса массажа Курт бродил по улицам Магдебурга, стыдясь идти домой. Вернулся поздно. И, не ужиная, закрылся у себя.
Через месяц отец снова дал визитку. И Курт, проклиная себя за слабохарактерность, опять поплелся на «сеанс массажа». Одно утешение — лицо очистилось. Так продолжалось два года, пока в доме не появилась пухленькая служанка с полуулыбкой. Она, вероятно, получила от хозяев надбавку за мытье сына в ванной.
Теперь у него только Марта. К сожалению, она не способна стать матерью. А жена без детей, да еще молодая, горячегубая, быстро наставит рога пожилому супругу. Уж лучше приглашать ее к себе на дачу: Марта красивая и стряпуха отменная…
Вечер подкрался незаметно. Курт Шарф запомнил адрес. Пивная «Вена» на дворе гостиницы. У входа в сад сидит конопатый чистильщик сапог. Ради рифмы он исковеркал слово:
— Шик и блеск — пять «копек»!
Низкорослый шиповник отделяет дощатый помост эстрады, где трио баянистов в голубых атласных косоворотках лихо раздувают мехи. Все кабинки из плетеных прутьев, увитые хмелем, заняты. Расторопный официант, с фирменной салфеткой, временно устроил интуриста за столик к двум толстякам. Красноносый смачно уплетал жареного цыпленка и не менее смачно рассказывал:
— Не поверите! Повестка из народного суда! На конверте советская марка, а внизу — «по указу его императорского величества».
Он вытер жирные пальцы о край скатерти и показал синий бланкетный конверт царского времени:
— Докатились! Бумаги нет!
«Вот оно, нэповское брожение», — засек немец, однако вздохнул облегченно, когда собутыльники освободили кабинку. К профессору подсел старичок с белой эспаньолкой, в поношенном сюртуке, и вежливо представился:
— Регент Софийского собора. — И рассказал о своей поездке в Северную Пальмиру: — Иду к Медному всаднику, а мне навстречу мой ученик Николка Монахов. Теперь видный артист. А я драл его за уши — петь учил на клиросе…
Немец заказал баварское пиво с русской, очень вкусной воблой. Он вспомнил Марту. Она брала уроки пения, но певицей не стала. За большую взятку получила место в транспортном концерне. Первый отпуск она провела на даче Шарфа на правах дальней родственницы. Курт, подобно Канту, не собирался жениться. А Марта нервничала: утром проклинала ночь, грозилась уехать; днем шумно стряпала (ее страсть); на закате куталась в плед, мечтательно вздыхала; ночью просила прощения, клялась в вечной любви, а просыпалась мрачной, ворчливой. Верховая езда и походы на яхте по озеру Мориц не влияли на ее настроение: оно целиком зависело от времени суток. Ученому больше всего нравилась Марта вечерняя. Заняв балконное кресло, она любовалась закатом, горящим озером и терпеливо поджидала профессора, встречая его трепетно, нежно и застенчиво. Но не дай бог коснуться философии! Марта начинала зевать, вяло смотрела на потолок и норовила скорее укрыться с головой одеялом: ее излюбленная манера спать. Что же общего между ними? Превосходная память — и все. Марта типичная немка: ее мечта — кухня и воспитание детей.
Над танцевальной площадкой, с трех сторон окруженной кабинками, вспыхнули разноцветьем гирлянды лампочек. И в тот же миг сцена в форме огромной раковины заполнилась светом рампы.
Седенький регент встрепенулся и, сияющий, шепнул:
— Идет…
Русская мадонна в национальном сарафане и алых сапожках, с длинной белой косой, осанисто вошла в полосу яркого света, даря всем улыбку.
— «Соловья!» — выкрикнул старичок.
А героиня вечера, белозубая, синеглазая, с густыми ресницами, слегка склонилась к баянистам и что-то тихо наказала. Румяный, с четким пробором на прилизанной голове, музыкант повел соловьиную мелодию Алябьева…
Шарфа потянуло на свою дачу. В зарослях возле ручья немецкий соловей ничем не уступал русскому солисту с его двенадцатью коленами. Вспомнилась и притихшая Марта с пледом на плечах. Образ любимой почему-то слился с Берегиней. Русская, пожалуй, сама управляла бы яхтой, сама оседлала бы Мефистофеля и сама бы первая затеяла философский спор. Россиянка — антипод немки…
Вернулся Курт усталым, но довольным. Прилег на кровать. Внизу ресторанная скрипка «объяснялась в любви». Рядом на столе его ждет почтовая бумага. График дня замыкают письма.
Он сел за стол. Сначала матери: она глубже понимает жизнь, чем Марта. Свои впечатления о Новгороде закончил интригующими словами: «Завтра у меня турнир с местным марксистом. Чудак узрел в микешинском памятнике „свод русской философии“. Нет русской философии, ибо она вся немецкая! На диспут придет феноменальная особа: у нее университетский диплом, безумная тяга к умствованию и талант эстрадной артистки…»
Засыпая, он мечтал о том, чтобы завтра белокурая славянка предложила ему обмен почтовыми марками; а приснилась таинственная рыжая попутчица. Не она ли дочь Вейца? Уж скорей бы день встречи машин.