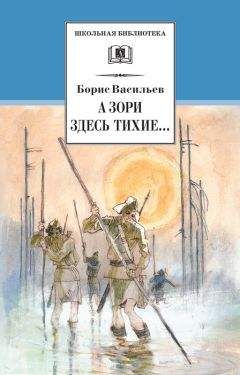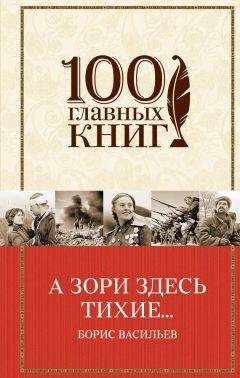Иван Вазов - Повести и рассказы
Я никогда не забуду этих дней.
Были, однако, у нас, членов болгарской депутации, и минуты огорчений. В отношении к Болгарии чувствовался некий холодок, особенно заметный во влиятельных русских кругах. При всей исключительности и чрезвычайности момента было ясно, что в душе русских живут обида и огорчение, вызванные поведением Болгарии, неблагодарностью освобожденного народа по отношению к своим освободителям (в данном случае, в представлении русских понятия болгарский «народ» и болгарское «правительство» сливались воедино, отождествлялись). Поводом для такого отношения послужила цепь прискорбных событий и разочарование в преданности болгарского народа. Мы это особенно ясно чувствовали, сравнивая отношение к нам и к сербской депутации, состоявшей из двух десятков сербов, прибывших главным образом из Белграда. В нее входили митрополит Михаил, генерал Груич и сам Пашич{212}. Русские относились к ним с особой теплотой и благорасположением, что являлось отражением новых веяний в русском обществе. Симпатии к Сербии росли по мере того как Болгария теряла их; это сквозило в печати и в русской политике, чувствовалось в настроении интеллигенции и народа… Холодок проник повсюду, поколебав совесть самых стойких наших друзей. Болгария лишилась благосклонности России — симпатии последней, по всему видно, были перенесены на Сербию.
Итак, 18 июля в Киеве устраивался музыкальный вечер, как бы эпилог празднеств. Этот вечер устраивался в честь славянских гостей, и все они были приглашены. Мы знали, что знаменитый хор Славянского будет петь национальные гимны всех славянских народов. Славянская душа выльется в упоительные звуки, и ее струны затрепещут в опьяняющем чувстве любви, братства, взаимности, высоких исторических идеалов, подвластные волшебной силе славянской музыки…
Легко понять нашу растерянность при виде того, что болгарский исторический марш, один из всех, был отвергнут, «изгнан» из программы, признан недостойным звучать в концерте наряду с остальными славянскими песнями.
Обида была жестока, от нее веяло презрением, брошенным в лицо Болгарии на виду у всего славянства; мы стояли, сокрушенно переглядываясь, и спрашивали друг друга, удобно ли нам после этого присутствовать на концерте.
Бедняга Кривцов сгорал со стыда, лоб его покрылся испариной. Русский до корня волос, член славянского благотворительного общества в Одессе, он был пламенным болгарофилом, добрым гением тамошних эмигрантов. Будучи членом русской депутации своего города, он добровольно взвалил на свои плечи бремя оказывать нам всяческое содействие.
Приближалось начало концерта; последние посетители входили в фойе и, поздоровавшись с нами, направлялись в зал. Некоторые останавливались и пробегали глазами афишу, после чего мы замечали (а может, это нам только казалось) на их лицах тень недоумения…
Мы стояли в нерешительности, вполголоса переговариваясь.
Старый Цанков сердито ворчал:
— Лучше бы уж не вписывали в программу этой штуковины… А то написали «Шумит Марица», а потом взяли да вымарали. Срамотища да и только!
— Нас, болгар, выставили на посмешище перед всем светом, — возмущался депутат из Дебыра.
— Распорядителей… Надо найти распорядителей! — воскликнул Кривцов. — Надо выяснить это… недоразумение. Это невозможно!
Трудно сказать, кто был больше поражен случившимся, — мы или он; на его полном, открытом и красивом лице застыли горечь и негодование.
— Господа, будьте добры, подождите меня здесь, я сейчас вернусь… Посмотрим, кому мы обязаны таким безобразием. Это, господа, пощечина не вам, а нашему русскому гостеприимству, — сказал он и отошел.
Мы с нетерпением стали ждать его возвращения. Спустя некоторое время Кривцов вернулся.
— Господа, — пробормотал он, вытирая платком потное лицо, — входите, пожалуйста, вам отведены ложи в первом ярусе.
— А как же быть с гимном?
Он махнул рукой. И, понизив голос, объяснил нам, что болгарский марш вычеркнут из программы отнюдь не с целью обидеть нас, а по соображениям иного, деликатного свойства, и передал нам извинения организационного комитета. Кривцов успокаивал нас довольно долго, так и не объяснив толком, в чем заключались эти соображения, наверное, ему было неудобно сказать правду. Но мы продолжали настаивать, и он вынужден был признаться, что гимн «Шумит Марица» пришлось убрать, чтобы не задеть кое-чьих чувств и самолюбия. О чьих чувствах и самолюбии шла речь, мы сразу догадались: было ясно, что это делается в угоду сербам. То ли сами они выразили свои претензии, восприняв наш гимн, под звуки которого два с половиной года тому назад болгарские знамена реяли на сербской земле, как гнетущее напоминание об их поруганной чести, то ли распорядители праздника по собственному почину, из чувства чрезмерной деликатности по отношению к гостям из Сербии приняли такое решение, мы так и не узнали. Кривцов дал нам попять, что не обошлось без вмешательства более высокой инстанции. Нам не трудно было поверить в это, имея в виду признаки охлаждения и недовольства Болгарией, о которых шла речь выше.
Кривцов всячески успокаивал нас, уговаривал войти в зал. Он говорил о том, что отсутствие болгарской делегации произведет плохое впечатление, что может выйти скандал, что мы поставим в трудное положение хозяев и в первую очередь его самого. Он просил нас не обижаться, войти в положение, он умолял, советовал не падать духом.
Взвесив все это, мы сочли благоразумным послушаться его и заняли отведенные нам места.
Не успели мы рассесться — каждый с камнем на сердце — в своих ложах, как занавес поднялся и на сцену вышел мужчина, русский, если не ошибаюсь, профессор, и начал читать лекцию об огромном историческом значении для России события, годовщина которого отмечалась. Он кончил свое выступление под дружные рукоплескания всего театра, три яруса лож и партер которого были до отказа заполнены гостями-славянами и русскими. Среди последних выделялись председатель благотворительного славянского общества Петербурга граф Игнатьев, генеральный прокурор Святого синода г-н Победоносцев, г-н Саблер, его помощник г-н Витте, проф. Ламанский, проф. Антонович, абиссинский герой Ашинов, сопровождающий абиссинского патриарха и темнокожую абиссинскую принцессу, внучку Менелика{213}, представлявших на празднестве империю последнего; были и другие знатные и известные особы.
Громкими овациями публика встретила появление на сцене Славянского, одетого в богатый костюм древнерусского боярина, его жены и дочери.
Вначале хор спел русский гимн, который публика выслушала стоя. Когда он кончил, зал разразился восторженными рукоплесканиями. После небольшого антракта Славянский опять вышел на сцену и спел чешский марш, и зал опять бурно зааплодировал; затем последовал новый перерыв и новый славянский гимн. Так были исполнены все включенные в программу песни за исключением опального болгарского марша.
Это обстоятельство мешало нам присоединиться ко всеобщему энтузиазму, возвыситься сердцами до восторга остальных гостей, которые с трепетным волнением внимали родным славянским мелодиям в этом интимном, почти семейном славянском собрании. Мы рукоплескали вместе со всеми, но на душе было тяжело, смутно, мы сидели, как в воду опущенные.
Вот уже Славянский вышел кланяться в последний раз, слушатели, наградив его еще более продолжительными и горячими рукоплесканиями, зашевелились, собираясь покинуть зал, как вдруг в одном из первых рядов партера поднялся Ашинов с его странным, очень светлым, женоподобным лицом, обрамленным шелковистой русой бородой, в нарядной черкеске, с абиссинским орденом на груди; он встал и выкрикнул тонким визгливым голосом:
— Шумит Марица!
Все взоры обратились к нему.
Шум смолк.
Славянский стоял на сцене с видом недоумения.
— Шумит Марица! — Закричал какой-то старый генерал из средних кресел партера.
Возглас «Шумит Марица!» был подхвачен и другими присутствующими; он был повторен довольно внятно с мест, где сидели депутации; особенно громко кричали чехи и русские офицеры. И вот уже весь зал гремел:
— Шумит Марица!
Вняв этому общему пожеланию, выраженному столь неожиданно и столь дружно, Славянский повернулся к хору, подал знак, и среди воцарившейся тишины зазвучали слова болгарского марша.
Можете представить себе, какие чувства испытывали мы, болгары. Мы встали и, дрожа от непередаваемого волнения и счастья, исполненные святой гордости, слушали наш дорогой, прославленный марш; мы чувствовали, что на наши ложи, особенно на ложу, в которой сидел старый Цанков, устремлено множество сочувственных взглядов. Хор пел стройно, с воодушевлением; эта песня, написанная на слащаво-игривый немецкий мотив, прозвучала с потрясающей силой, навевая воспоминания о днях борьбы, о знаменательных событиях. Эта песня, гремевшая в дыму сражений под аккомпанемент победоносного, триумфального «ура», всколыхнула до дна наши истерзанные унижениями души изгнанников. Она, казалось, выражала бурный протест против посягательства на болгарскую честь; она как бы выкристаллизовала в звуки все лучшее, все доброе, что было в нас, всю славу болгарского народа. В тех обстоятельствах, в те минуты она имела над нами неслыханную, магическую власть.